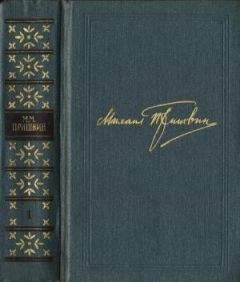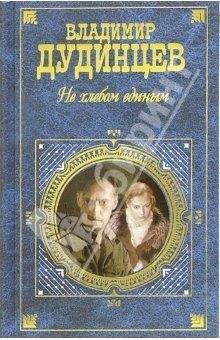Рассказ о жизни М. М. Пришвина подходит к концу. Поздней осенью 1953 года мы переехали из Дунина в Москву. Тяжело больной Михаил Михайлович сам вел машину, – он не подозревал о приближающемся конце и боролся с непонятной физической слабостью. В Москве – больница. Потом – возвращение домой.
Декабрь. Раннее утро. Михаил Михайлович, как всегда, уже на ногах. Он подходит в кабинете к окну, записывает:
«День серый от неба и до земли пришел и стал.
– Не спеши, Михаил! – сказал я себе. А самому дню:
– Погоди! – приказал я. – Не трогайся, пока я не отпишусь, теперь утро, ты еще в моих руках!»
В ночь с 15 на 16 января 1954 года он скончался. Последняя запись в его дневнике: «15 января. Пятница. Деньки, вчера и сегодня (на солнце – 15) играют чудесно, те самые деньки хорошие, когда вдруг опомнишься и почувствуешь себя здоровым».
III
В чем же современность и новизна Пришвина-художника?
Не о конце – о начале творческого пути Пришвина будем мы сейчас говорить – о его центральной идее: «искусство как образ поведения». Круг сомкнулся, мы нашли свою точку опоры: отсюда и открывается смысл его творчества. Остается лишь спросить: куда же ведет оно нас?
«Дело человека – высказать то, что молчаливо переживается миром. От этого высказывания, впрочем, изменяется и сам мир». Это и есть избранное Пришвиным направление в его словесном творчестве.
Природа Пришвина – это прекрасный мир, о котором тоскует каждый человек, тоскует явственно или слепо. Приглядимся же к поэтическому миру – это тот мир, который открывает нам по мере сил своих каждый художник.
Первое, что мы замечаем: вещи и существа стремятся в восприятии художника обрести прекрасную форму, но это не пустая, не отвлеченная мечта: скрытое соответствие существ, как некая возможность гармонии, устанавливается Пришвиным в нашем бедственном мире природы, хотя этот мир и страдает смертельно в жестокой борьбе и противоречиях. Эти скрытые возможности, как художественные открытия, иногда вдруг проглядывают в отдельных деталях.
Вот перед ним хотя бы цветок: своей круглой сердцевиной и венчиком он напоминает солнце. Или рыба – своей формой, плавной, находящейся в непрерывном движении, она повторяет волну. Колос соотносителен лучу, в тонком стебле, устремленном вверх, сама земля как бы открывает свою способность, свое стремление становиться лучом. В каждом стебле и листе тонкая линейная грань – нечто от природы драгоценного камня или кристалла.
Тема кристаллографии у Пришвина имеет множество аспектов. Это и образ изначально сотворенного мира как кристалла, который, падая, образовал бесчисленные формы круглых миров. Это и мысль о том, что всякая творческая сила есть сила кристаллизации, то есть восстановление изначальных и вечных форм кристалла. И наконец, мысль о кристалле переносится в область духовную – в область борьбы за Прямую, как моральную борьбу за некий идеал, противопоставляемый Кривде.
Такие художественные открытия можно делать без конца, и все они находятся, несомненно, на грани сказочного, в сущности, детского восприятия мира, – так видит мир ребенок. Но тем не менее они реальны, потому что доступны всем, и они украшают нашу жизнь, хотя мы и не задумываемся об этом.
Так видит художник мир, в котором возможна согласованность форм, наблюдаемых им в отдельных случайных явлениях. Этот мир хорошо известен ребенку, и Пришвин не устает повторять о детском восприятии мира и о художественном творчестве как об игре ребенка.
Так настроенный и осуществляемый в искусстве мир мыслится нами сейчас скорее всего только как прекрасный вымысел – сказка. Но без сказки, как мы знаем, человек ни жить, ни работать не может: нет движения без сказки, и без сказки не может быть правды. Так думает Пришвин. И еще резче: «Правда без выдумки – как самолет без горючего».
В творческом воображении художника происходит борьба: в конечные обыденные формы художник вкладывает бесконечное поэтическое содержание.
Тут остановимся и мы и начнем вместе с Пришвиным обратное движение, чтобы представить себе ясно, что такое природа у художника – Пришвина.
Космос – этот символ бесконечности – переносится Пришвиным внутрь земной знакомой нам природы, и это уже не расплывчатый бег уносящейся мечты, а четкая материальная прочнейшая форма земного бытия.
Так понимаем мы поэтическую философию, и таково поэтическое понимание мира природы и человека в нем у Пришвина.
Пришвин пишет: «Вот это и есть самое главное – быть уверенным, что мир этот существует и если сделаешь усилие, то можно и самому попасть в него и потом открыть его всем.
Сколько ни думай, не скажешь, откуда берется эта уверенность в существовании чудесного мира, уверенность, равная знанию, требующая от каждого оставить свой дом и найти лучший, и как-то не для себя одного, а для всех».
Как это происходит в сознании, в опыте Пришвина? Вот простейшая запись его дневника, его повседневного быта: «Чтобы лес стал как книга, нужно сначала не по верхушкам глядеть, а нагнуть голову и вникнуть в мелочи. Это не очень легко, потому что хочется смотреть на вершины. Много нужно в себе пережить, чтобы захотелось с любовью и радостью глядеть себе под ноги. Надо, чтобы стало тесно в себе, и очень больно от этого, и почувствовать малость свою, и возненавидеть претензии вместе с птицами летать по вершинам.
Тогда в глубокой уничтожающей тоске опускаешь глаза и встречаешь маленькое чудо какое-нибудь: вот хотя бы этот папоротник с такими сложными листьями, такой нежной зеленью <…>. После долгого удивленного разглядывания внизу попала пушинка в глаз, захотелось вверх посмотреть, и вот тогда открылись вершины во всех своих подробностях, во всей своей красоте. Так нашелся выход из себя».
Этот выход нашелся в человеке, как мы только что увидали, через связь его с родным и земным, через любовное и смиренное к нему отношение: надо было «возненавидеть претензии… летать по вершинам..». И тогда открываются ему все богатства жизни – и под ногами, и на вершинах.
Так, в конечную форму художник вложил бесконечное содержание: море, озера, очарование бездны – все это оформлено у Пришвина и стало структурно-прозрачным, остановленный! в беге. Все стало у художника устойчивой действительностью.
Снова скажем: его мир – мир поэзии, сказки. Пришвин пишет сказки и в конце жизни отдает себе в этом трезвый отчет. Но сказки эти – быль, творимая из поколения в поколение, это жизнь, в которой не может осуществляться никакой правды без сказки. Правда и есть осуществление «лучшего, чем данное», в чем, по слову Пришвина, и заключается смысл всякого искусства.
У читателя может возникнуть тревога, что напряженность внутренней жизни уводила Пришвина в особое мысленное уединение и природа заменяла ему декадентскую «башню из слоновой кости». Но откроем любую его страницу – и такое опасение сразу рассеется. От первых его строк и до последних, написанных перед концом, – во всем видна прямая и тесная связь с общей жизнью, тревога за все, что творится на земле. «Спасителем человека от Кащеевой цепи будет тот, – пишет Пришвин в 1925 году, – кто научит каждого работника видеть в своем труде творчество жизни, чтобы часть узнала себя частью целого – коллектива. Есть ли это дело художника? – спрашивает Пришвин. – Нет, – отвечает он себе, – это уже дело человека».
В конце своей жизни писатель всецело обращает внимание на судьбы этого человека. Вопросы истории, войны и мира, спасения и преобразования природы – все эти вопросы нашей современности являются темой размышлений Пришвина и присутствуют особенно ощутимо в произведениях последних лет.
За ним стоял долгий опыт жизни: сколько подвигов, сколько преступлений, сколько судеб, за которые мы все сообща несем ответ, пережилось и оставалось в памяти. И на старости лет Пришвин сохраняет в душе те же черты юноши, принявшего некогда марксизм, чтобы поторопить пришествие благодетельной мировой катастрофы, которая, по вере его, преобразит жестокую и несправедливую жизнь.
Но уже в молодости, на своем тридцатилетнем переломе, он знал: он должен искать и найти, чем он сам может быть полезен общему делу данным ему природой дарованием, – это дарование настойчиво стучалось в душе и требовало воплощения.
По окончании войны Пришвин делает на рукописи своей, как ему казалось законченной, «Повести нашего времени» приписку, меняющую в корне смысл конца повести: теперь он обращается к герою своему с призывом снять с себя эту тяжесть свою: «все понять, не забыть и не простить».
«Так это эгоизм?» – спрашивает однажды, не понимая Пришвина, его собеседник. «Нет, – отвечает Пришвин, – это милосердие».
Нравственная мировая трагедия разрешается теперь Пришвиным по-новому, и это толкование должно было лечь в основу переработки «Осударевой дороги». С таким недоговором и вместе с тем с приоткрывшимся для него новым пониманием темы возмездия Пришвин уходит из жизни, не успев написать задуманную работу. Мы можем лишь бережно принять этот новый приоткрывшийся смысл и нести его дальше.