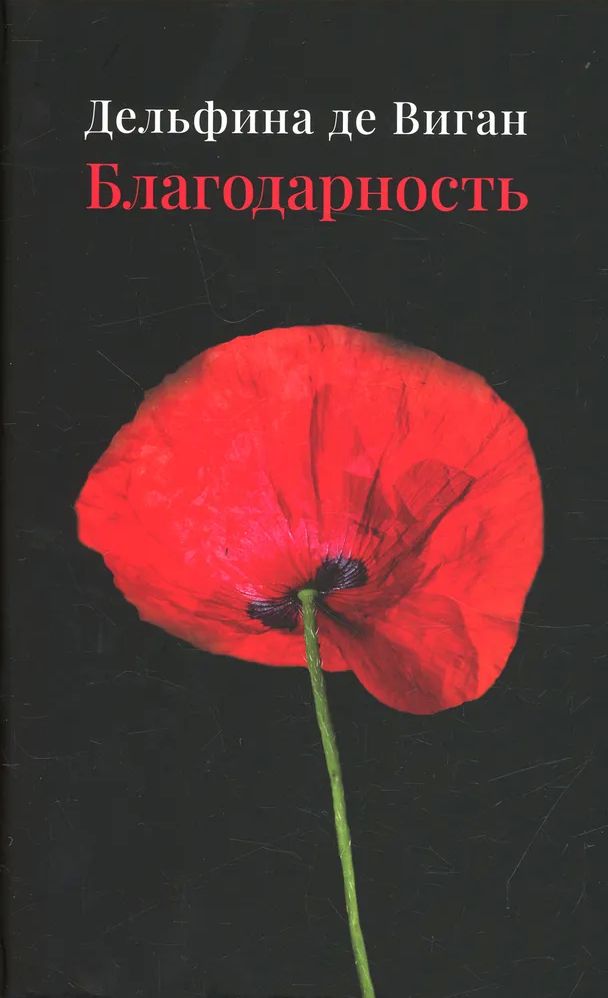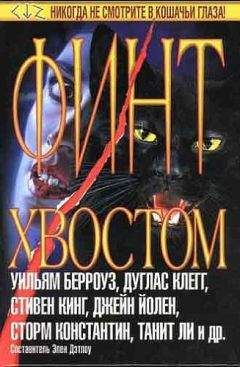комнату Миша. Она не постучалась и не сочла нужным поздороваться. Она вскидывает руку, в которой зажат экземпляр газеты «Монд», и гневно размахивает ею.
— Это вы подали объявление?
Миша кивает. Директриса едва не лопается от негодования и кричит:
— Невероятно! Кем вы себя возомнили, мадам Сельд? Вы совершенно сумасшедшая! Вы абсолютно безумная! Вы просто ку-ку! Объявление? Почему уж тогда не плакаты по всему городу? Не рекламный ролик? Не воздушный шар? Не самолет с плакатом над пляжем?! В голове не укладывается… Объявление! Мы живем в двадцать первом веке, мадам Сельд, война кончилась. Наше предприятие переживает небывалый подъем, расширяется, а вы позволяете себе подавать объявление, которое ставит нашу репутацию под удар! Да вы хоть понимаете, что такое репутация? Это основа основ, это альфа и омега, это три кита! А уничтожить ее можно меньше чем за сутки!
Миша не произносит ни слова. Она продолжает сидеть на постели, как девочка, положив руки на колени.
Директриса открывает газету на странице «Семейные объявления» и читает вслух, не пряча своего сарказма:
— «Мишель Сельд, она же Миша, разыскивает Николь и Анри, которые приютили ее у себя в Ля-Ферте-су-Жуар в период между тысяча девятьсот сорок вторым и сорок пятым годами». Николь и Анри! Вы что, даже фамилии их не знаете?
— Нет.
— Эти люди вас спасли, а вы не запомнили их фамилии? И вы еще отказываетесь от занятий по тренировке памяти?! Ну и ну… Имена-то хоть правильные? А название деревни?
Миша молчит и не двигается. Ее словно парализовало.
— Память у вас, возможно, окончательно сдает, зато аппетит нисколько не ухудшается! Шоколадные конфеты от мадам Данвиль — да за милую душу! Яблочный сок — да за милую душу! Салат из сельдерея — да за милую душу! Но стоит только месье Миллу предложить вам пару упражнений, силы немедленно покидают вас. Полная капитуляция, Березина, Ватерлоо! Вы занимаете отдельную комнату, вы уминаете еду за обе щеки, вы посещаете киноклуб, вы гуляете по саду — иными словами, вы дорого обходитесь нашему заведению, мадам Сельд, очень дорого. И чем же вы отвечаете на нашу заботу? Устраиваете нам такую нервотрепку со своим объявлением, такую головную боль, что и сказать страшно! Я жалею, что согласилась принять вас в наше учреждение. Отныне нам с вами не по пути, ибо вы ничего не даете взамен. Повторю для ясности: НИЧЕГО. И вообще, о чем вы только думаете? Эти люди мертвы! Мертвы! Мертвы! Мертвы! Они мертвы, а вы так и не поблагодарили их!
Миша просыпается вся в поту, садится на постели.
Ее сердце стучит как барабан, она с трудом выравнивает дыхание. Прячет лицо в ладонях и душит подступающие рыдания.
Несколько дней спустя я снова прихожу проведать Миша. Пошатываясь, она стоит в центре комнаты и опирается рукой о трость.
— Я могу уже еще сама застелить кровать! На это уходит время, много времени, с этим не повздорить, но у меня получается. А она все равно заявляется каждый день и перестилает по-своему, делает все заново, каждое утро, она расправляет… покрытие, видишь, точно я плохо его разложила.
— Кто же это?
— Дама, которая делает убор!
— Миша, так ты просто скажи ей: пожалуйста, не перестилайте кровать, я сама заправляю ее.
— Я говорила! Но она в ответ только закатывает глазуньи, будто я какая-то глупая старая корова.
— Уверяю, у нее и в мыслях не было оскорбить тебя. Давай я с ней побеседую?
— Нет-нет, у тебя есть дела поважнее. И кстати, с мытьем теперь тоже одно расстройство. Новая садилка не разрешает мне принимать душ самостоятельно.
— Я знаю, Миша, но тревоги твоей сиделки оправданны, ведь недавно ты опять падала. Так что это исключительно ради твоего блага.
— Мое благо… Оно совсем в другом, Мари. Мое благо — в том, чтобы меня оставили…
На протяжении нескольких секунд она подыскивает нужное слово, но так и не находит его.
— В покое?
— Да. Вот-вот. В покое. Сюда все время кто-то забегает. Чтобы принести утренник, пилюли, полдник, положить белье, застелить кровать, навести порядочность, узнать, как дела, выспросить про того и про этого, все время, все время, тук-тук — и хоп, они уже тут, понимаешь? А если ты не хочешь видеть их, ты не можешь взять и… исчезнуть.
— Понимаю, Миша. Присядешь ненадолго?
Она опускается в кресло.
— Ты уже подала обновку?
— Да, Миша, на этой неделе объявление выйдет в «Монд», а на будущей — в «Фигаро». Я тебе сразу сообщу, если у меня появятся новости.
Она вносит эти сведения в свою мысленную записную книжку.
Отныне Миша начинает ждать. Надеяться. Не осмеливаясь задать мне ни одного вопроса, она будет заглядывать в это приоткрытое окно надежды так долго, как сможет.
— А мои пуловеры? С ними та же история. Видишь, я сама их прекрасно развешиваю. Чего она примешивается?
— Скажи-ка, ты не боишься, что сиделка обнаружит твою бутылку виски?
— Она хорошо спрятана, поверь. Еще глубже, чем раньше. И дело не в этом: мне просто не хочется, чтобы кто-то рылся в моем шкафу. Расскажи теперь, как твои дела.
— Все идет своим чередом, Миша.
Она окидывает меня внимательным взглядом.
— Ты причесываешься?
— Да, Миша, я причесываюсь. Я тебе уже объясняла: такие кудри, как мои, аккуратно не уложить.
— А, ясно… Ну, раз ты так считаешь. Жалко.
В комнате воцаряется молчание. Мы думаем каждая о своем.
— Вообще-то у меня есть для тебя одна новость, Миша… Я жду ребенка.
Она делает вид, будто не слышит.
— Хочешь шоколадных конфет? Они с алкоголем, ну совсем с чуть-чуточкой, но очень вкусные, просто объедки. Это мадам Данвиль мне принесла.
— Миша, ты слышала, что я сейчас тебе сказала?
— И что за парень?
— В смысле — что за парень?
Она вдруг теряет терпение.
— Ты не знаешь, кто парень?
— Ну почему, знаю, но