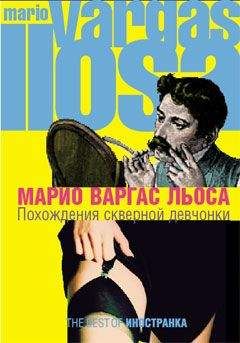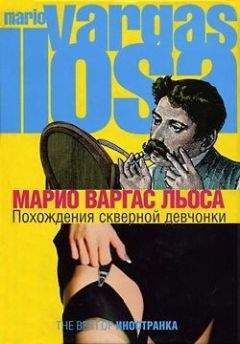правоверные уши?
Но шутить никому не хотелось. И даже Имберту, он говорил, просто чтобы скоротать ожидание.
— Внимание, — встрепенулся де-ла-Маса.
— Это грузовик, — определил Сальвадор, кинув взгляд на приближающиеся желтоватые фары. — Я не богобоязненный и не фанатик, Антонио. У меня своя вера, только и всего. А после Пастырского послания 31 января прошлого года я горд, что католик.
И в самом деле оказался грузовик. Он проехал с ревом, погромыхивая полным кузовом ящиков, закрепленных веревками, и затих вдали.
— Выходит, католику о жопках говорить нельзя, а убивать можно, так, Турок? — продолжал поддевать Имберт. Он делал это часто, они с Сальвадором Эстрельей Садкалой были в этой компании самыми близкими друзьями; они постоянно друг над другом подшучивали и порою так рискованно, что постороннему могло показаться, что дело кончится дракой. Но ссориться — никогда не ссорились, дружба была крепкой. Однако в ту ночь, похоже, Турку чувство юмора отказало.
— Убивать вообще нельзя. А покончить с тираном — можно. Слышал такое слово — тираноубийство? Церковь его позволяет в крайнем случае. Это написал святой Фома Аквинский. Тебе интересно, как я об этом узнал? Когда я начал помогать движению «14 Июня» и понял, что, возможно, и мне придется нажать на курок, я пошел посоветоваться к нашему духовнику отцу Фортину. Это канадский священник, из ордена Сантьяго. «Монсеньор, будет грехом для верующего убить Трухильо?» Он закрыл глаза, подумал. Я мог бы повторить тебе его ответ слово в слово, с итальянским акцентом. Он показал мне место из святого Фомы, из его «Суммы теологии». И если бы я этого не прочитал, я бы не был здесь сегодня с вами.
Антонио де-ла-Маса обернулся на него:
— Ты советовался об этом со своим духовником? — У него дрогнул голос.
Лейтенант Амадо Гарсиа Герреро испугался, что тот сейчас взорвется, приступы гнева случались у де-ла-Масы с тех пор, как по указанию Трухильо несколько лет назад убили его брата Октавио. Приступ гнева, как тот, что чуть было не разорвал дружбу, соединявшую его с Сальвадором Эстрельей Садкалой. Турок успокоил его:
— Это было давно, Антонио. Когда я только начал помогать людям из «14 Июня». Думаешь, я такой ублюдок, чтобы взвалить на несчастного священника подобную тайну?
— Тогда объясни, Турок: почему можно говорить «ублюдок», а «жопка» или «трахать» — нельзя? — пошутил Имберт, снова пытаясь разрядить напряжение. — Разве Бога оскорбляют не все непристойные слова?
— Бога оскорбляют не слова, а непристойные мысли, — смиренно гнул свое Турок. — Недоумки, которые несут неумь, возможно, его и не оскорбляют. Но докучают страшно.
— Ты причастился утром, чтобы идти на великое дело с чистой душой? — продолжал поддевать Имберт.
— Я причащаюсь каждый день вот уже десять лет, — сказал Сальвадор. — Не знаю, чиста ли моя душа, как положено христианину. Это известно одному Богу.
«Чиста», — подумал Амадито. Из всех, кого он встретил за тридцать один год своей жизни, этот человек вызывал у него восхищение как никто другой. Он был женат на Урании Миесес, любимой тетке Амадито. Еще со времен, когда Амадито был кадетом военной академии имени Битвы при Каррерасе (академию возглавлял полковник Хосе Леон Эстевес Печито, муж Анхелиты Трухильо), он привык проводить свои увольнительные в семье Эстрельи Садкалы. Сальвадор играл в его жизни огромную роль: Амадито поверял ему все свои заботы, проблемы, мечты, сомнения и, принимая решение, всегда просил у него совета. Семья Эстрельи Садкалы устроила праздник, когда Амадито окончил академию с высшей наградой — Золотой Шпагой — первым из всего выпуска в тридцать пять офицеров! — на торжество пришли одиннадцать его теток по материнской линии; и еще один — несколько лет спустя, когда молодой лейтенант получил счастливейшее, как он считал, в своей жизни известие: согласие принять его в самое престижное подразделение вооруженных сил, в корпус военных адъютантов, личную охрану Генералиссимуса.
Амадито закрыл глаза и вдохнул соленый морской воздух, входивший во все четыре открытые окна. Имберт, Турок и Антонио де-ла-Маса молчали. С Имбертом и де-ла-Масой он познакомился в доме на улице Махатмы Ганди, и случаю захотелось, чтобы он стал свидетелем такой яростной стычки между Турком и Антонио, что испугался, как бы не начали стрелять, а потом несколько месяцев спустя увидел, как Антонио с Сальвадором помирились ради общего дела: убить Козла. Кто бы мог сказать в тот день 1959 года, когда Урания с Сальвадором устроили праздник, на котором было выпито столько бутылок рому, что не пройдет и двух лет, как он теплой и звездной ночью 30 марта 1961 года будет поджидать этого самого Трухильо, чтобы убить. Сколько всего произошло с того дня, когда в доме номер 21 по улице Матхамы Ганди вскоре после того, как он вошел, Сальвадор с очень серьезным видом взял его под руку и отвел в удаленный угол сада.
— Я должен тебе кое-что сказать, Амадито. Потому, что я очень тебя люблю. И все в нашем доме тебя любят.
Он говорил так тихо, что юноша невольно потянулся к нему поближе.
— Ты о чем, Сальвадор?
— О том, что я не хочу повредить твоей карьере. У тебя могут быть неприятности из-за того, что ты ходишь сюда.
— Какие неприятности?
Всегда спокойное лицо Турка передернулось. В глазах промелькнула тревога.
— Я связан с ребятами из «14 Июня». Ели это раскроется, тебе будет худо. Офицер из корпуса военных адъютантов Трухильо, подумай сам!
Лейтенант и представить себе не мог, что Сальвадор — подпольный заговорщик, помогает людям, которые организовались на борьбу против Трухильо после стоившего стольких жизней кастристского вторжения 14 июня в Констансе, Маймоне и Эстеро Ондо. Он знал, что Турок ненавидит режим, и хотя Сальвадор с женою в его присутствии соблюдали осторожность, порою все же у них вырывались критические высказывания в адрес властей. Правда, они тотчас же замолкали, поскольку знали, что Амадито, хотя политикой и не интересовался, но, как всякий офицер вооруженных сил, питал собачью, не объяснимую умом преданность Хозяину, Благодетелю, Отцу Новой Родины, который вот уже три десятилетия вершил судьбы Республики, распоряжаясь жизнью и смертью каждого доминиканца.
— Ни слова больше, Сальвадор. Ты мне сказал. Я тебя слышал. И забыл, что ты мне сказал. Я буду ходить, как ходил. Этот дом — мой дом.
Сальвадор посмотрел на него тем чистым взглядом, который всегда заражал Амадито радостным ощущением жизни.
— В таком случае пойдем выпьем пива. И не будем грустить.
И, разумеется, Сальвадор с Уранией были первыми — вслед за двоюродной бабкой Мекой, самой любимой из одиннадцати материнских сестер, кому он представил свою невесту, когда влюбился и