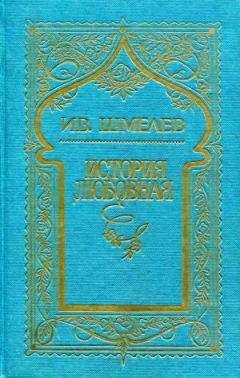Возвращаясь садами, остановился у шалаша и сел. Услыхал поезд, свисток от полустанка… – Опаздывает… без четверти семь…
Пустыми показались ему сады. Вспомнил кузнечика… Пошел к дому. Стоял на терасе, зяблика слушал, думал.
Садилось солнце – огромным кровавым шаром.
Через неделю взяли на войну садовника Михайлу, правую руку полковника. А там забрали и кучера Акима, бывшего вестового.
Полковник каждого проводил честь честью, до конца сада, и расцеловался. Подарил на дорогу по пятерке. Наказывал:
– Пиши, в какую назначат часть, как и что… Может еще и встретимся.
И тот и другой сказали в одно слово:
– С вами бы, ваше высокоблагородие, довелось!..
Стоял сентябрь. Яблоки были сняты и проданы. Сады редели. Дни выдавались сухие, солнечные. Остался полковник с мальчишкой да со старой Василисой. Сам кормил поросят и кур. Попиливал сушь в садах, складывал на зиму подпорки, – сады прибирал с мальчишкой. К вечеру выходил на бугор – на запад. Там багрово садилось солнце. Там шумела война. К ночи долго читал газеты, радовался, ругался. Ночью ждал телеграмм…
Телеграммы пришли, – и ночью. В конце октября, в заморозки, узнал полковник, что оба сына в госпитале, ранены под Луцком и Равва-Русской, но поправляются, «будь покоен». Оба – с боевыми отличиями – Станислав и Анна с мечами. Тому и другому полковник послал по телеграмме:
«Поздравляю, благословляю.»
Выслал по сто рублей – «на яблоки» – и по ящику пастилы. Поехал в Рожново, отслужил молебен. И казалось ему, что сегодня праздник. Объехал знакомых по усадьбам, делился радостью.
Ходил на рябчиков, по можжухе, ставил на речке вентеря на налимов. Радовался, что галки появились на усадьбе, – ранняя зима будет. Показывал Василисе карточки Степы и Паши, с фронта, в кругу солдат. Стучал пальцем и говорил:
– Там уж, понимаешь, как семья… солдатская! Ро-сси-ю защищают… Там уже не служба, а… как обедня!
Вздыхала Василиса. У ней тоже забрали, Гаврюшку-внука, да только и слуху нет.
– Однова всего отписал… под этим вот, под германцем, будто… при пушках ходит. А то и слухов нету…
– Это пустяки, при пушках! – говорил полковник. – При пушках убыль невелика. А вот в пехоте нашей… мои вот где!.. На ней – все. Пехота – святое дело. Без пехоты ни шагу: на самые пушки идти должна!
– У-у-у… на пу-шки?!.. – вздыхала Василиса.
По первому снегу, в ноябре, пришло из-под Варшавы измазанное письмо от кучера Акима. Писал Аким, что ранен в ночную вылазку, как проволоку ходил резать, – и заработал Егория. Послал ему полковник десятку на поправку. А на Николу получил телеграммы от сыновей с фронта: «Хорошо все, здоров.»
Не сиделось дома, горело сердце. По веселому снегу покатил полковник в село на саночках – размотаться. Даже к Куманькову в лавку зашел, – свежей икрой Куманьков хвалился, «донского выпуска», пригласил с порожка:
– Ва-ше Превосходительство! Икорка – прямо… недосягаемо!
– Да что икорка… – поговорить приятно.
До темной ночи мотался по дорогам, по усадьбам, – покою не находил. Хотелось ему метели: солнце со снегу глаза кололо – кровавое солнце на закате. По газетам видел: большие идут бои.
С рассветом пришла метель, на Стефана Преподобного, девятого числа, – день Ангела Капитана. Ездил полковник на полустанок, отправил телеграмму. Насилу домой добрался…
Засыпало-замело сады невиданною метелью, – столбами сыпало, вытряхивало кули небесные. Выше ворот сугроб намело с вихром. Стоял полковник, в широкое окно смотрел как потонула зеленая водовозка, – одни оглобли торчат, с вершок, – свету Божьего не видать! Смотрел и думал: «там у них тоже, небось, метели…»
Пошел в темную спальню и затворился. А когда вышел, смотрит – пирог на столе стоит: упомнила старая Василиса Преподобного Стефана! Поглядел на пирог полковник, да и задумался, – и пирога не тронул. И уж затемнело, засинело в окнах, а все стегает. До ночи все тосковал, метался, прикладывался к окнам. Сыпало еще пуще.
А на утро – мороз, прочистило, ярко-ярко. И по новой, по сахарной, дорожке приехал начальник полустанка на розвальнях, привез от Степана телеграмму – «благополучно, будь покоен». Крякнул полковник, потер лицо, встряхнулся-отмахнулся:
– Прямо ты меня… спрыснул! Метель эта, понимаешь… пуля у меня живет под сердцем… Выпьем.
Выпили с гостем «на черствого именинника», закусили пирогом вчерашним, как из печки, – морозила его Василиса и прогрела, – с куманьковской икрой, – ничего икорка! – потолковали о метели, сыграли в гусарский винт. Наградил полковник начальника полустанка пачкой новых пластинок грамофонных:
– И оставить можешь. Только «Трубят голубые гусары» и «На смотру» верни обязательно! Иглы у тебя плохи, царапают.
В январе пришло, наконец, письмо и от садовника Михайлы: был ранен под Перемышлем, остался в строю и снова ранен – в живот «накось», ничего, выпишут скоро на поправку. И ему послал полковник десятку.
Пришла на Сретенье телеграмма от Павла: «поздравь Владимиром!» Заплакал, как прочитал, полковник. Опять места не находил. Вынул из рамочки на стене свой портрет, вставил в рамочку телеграмму, повесил. И сказать некому, а что Василиса понимает! Сказал себе, о Павле думая:
– А какой был тихой!
Взглянул на портрет покойной жены, сказал портрету:
– Ка-кой твой-то!..
К весне стал задумываться полковник. Стали снега сходить, стали деревья плакать, крыши капель погнали. Стали ворчать ручьи и днем, и ночью. Заиграли по зорям галки. По-весеннему мягко запахло дымом и навозом. Воробьи заточили-завозились на потеплевших тесовых крышах, по тополям, в ледяных проточинах принялись на солнышке купаться-подчищаться. И вот – зашипели грачи за окнами, а там и скворцы примчали на скворешни, – и пошла, и пошла весна.
Стало трепать сады теплым, с дождями, ветром, пушило соломенную окутку молодняка, – в сады манило. Ходил полковник в высоких сапогах, смотрел просыпающихся и спящих, – любимые свои яблоньки – разматывал окутку.
Теплые пролили дожди, пригрело, – и стало надувать почки.
В мае стали сады цвести.
В мае неожиданно приехал старший, тоже теперь полковник, с орденами, – и без ступни.
Ахнул старый полковник, глазам не верил:
– Да ты ж писал?!.. Да как же… я-то не знал?!..
– А зачем тебе знать, полковник? Это еще когда!.. под Горлицей потерялось… в самый день Ангела, полковник!
– В день… Ангела?!.. А как же… телеграфировал?…
– Ну… это тебе бригадный, из уважения, ну… по моей просьбе, полковник. Ну… жив остался!.. Все уже откатилось…
И вспомнил полковник метельный день, снеговые столбы и вихри, и свое метанье…
Вот уж скоро и год, как проводил сыновей на войну, и сколько всего случилось за это время, но полковнику особенно почему-то помнилось, как остался тогда один. Забыл и ночные телеграммы из Львова и из-под Прасныша – ранениях Павла и Степана и об отличиях, ожегшие страхом, радостью; забылось и «сумасшествие», как выбежал ночью в бурю и кричал черным, пустым садам и в стегавшее ливнем небо – «молодцы мои… молодцы!» – и плакал и утирался ливнем; и Степины костыли забылись. А «проводы» почему-то закрепились. В бессонные ночи думалось, и во сне приходило – повторялось, и до того живо виделось, что не скажешь, где – сон, где – явь. Стыдился себя полковник – «как старая баба, право!..» – и вспоминал – томился. Сколько прошел походов, видал смертей… и в Туркестане, со Скобелевым, и Карс штурмовал, – с пулькой турецкой ходит, – это не вспоминается. А тихий июльский вечер, с огненным солнцем в яблонях, когда затаенно слушал, как громыхает поезд, выходит из головы, из сердца, – ошибка Павлика? «Пустяк, понятно…» – разбирался в себе полковник, – «естественно, волновался мальчик… вполне естественно…» Но этот «пустяк» не стерся.
Выйдет в сады полковник, порадуется – полны, урожай, прямо… не запомнишь! И потянет под Пашину яблоньку, «поручиково – любимое», – на цинковый ярлычек взглянуть, с острой пометкой ножичком в день прощанья: 29. VI. 1914. Глядит и думает… Надо бы «VII» пометить, июль-месяц, а он ошибся, и вышло 29 июня, самый день Ангела, Петров-день. Вполне естественно, что тут думать! А думалось.
Глядит полковник на ярлычек, – сияли царапины на цинке, теперь померкли, – и все-то сосет на сердце. И пойдет разворачиваться, болью…
Благословлял в полутемной спальне – приехали под утро, так и остались ставни, – надевал походные образки. А они смущенно-торопливо, словно им было стыдно, заправляли крутившиеся шнурки за ворот. Вышли на яркую терасу, жмурясь, – кололо солнцем. Он обнял их, накрепко потянул к себе, объединяя собой обоих, и сказал, зажимая боль, бодро сказал, отчетливо, радуясь молодости и силе их, и ловко пригнанной, уже походной форме: «так вот… ребятки… солдата береги, назад не гляди, зря голову не подставляй». И тут подумал – ныне уже решенное: «будет и мне там дело». Ходили в садах, возились, чтобы унять разлуку. Проводил за сады, до речки, – на полустанок не захотел, где люди, – шагал у тарантаса. Расцеловались, помотали фуражками. Помнилось Пашино лицо… нежное, как у девушки, незагоравшее никогда, – «мамочкино лицо», «свежее молочко в румянце», – влажно блеснувший взгляд, и ободряющий оклик из взметнувшейся клубом пыли: «па-па… ты не скуча-ай!..» Это вот – «не скучай»… Пыль, ничего не видно, и крик за пылью… – так и застряло в сердце.