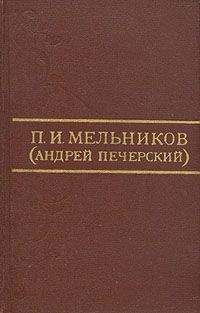Ознакомительная версия.
Жить тебе, сударыня, да богатеть, добра наживать, а лиха избывать… Дай тебе царица небесная жить сто годов, нажить сто коров, меренков стаю, овец полон хлев, свиней подмостье, кошек шесток… Даст бог, большачок-от[283] твой, сударыня, опять тягло примет, опять возьмется за сошку, за кривую ножку. Подай вам господи прибыли хлебной в поле ужином, на гумне умолотом, в сусеке спором, в квашне всходом… Из колоска бы тебе, Филиппьевна, осмина, из единого зернышка каравай. И смолкла на минуту дух перевести.
— Садись, Арина Исаишна, гостья будешь, — обычный привет сказала ей Пелагея Филиппьевна.
О том помышляла хозяйка, чтобы как-нибудь поскорей спровадить незваную гостью, но нельзя же было не попросить ее садиться. Так не водится. Опять же и того опасалась Пелагея Филиппьевна, что, не пригласи она присесть первую по всему околотку вестовщицу, так она таких сплетен про нее назвонит, что хуже нельзя и придумать.
— Напрасно, мать моя, беспокоишь себя. Не устала я, сударыня, сидела все, — отвечала тетка Арина и повела приветы свои с причитаньями.
Не надивуется Пелагея Филиппьевна сладким речам первой по деревне зубоскальницы, злой пересмешницы, самой вздорной и задорной бабенки. С той поры как разорились Чубаловы, ни от одной из своих и окольных баб таких насмешек и брани она не слыхивала, таких обид и нападок не испытывала, как от разудалой солдатки Арины Исаишны. А сколько ребятишки терпели от ее ехидства.
Наговорив с три короба добрых пожеланий, тетка Арина ловко повернулась осередь избы и, бойким взглядом окинув Герасима Силыча, спросила его нараспев умильным голосом со слащавой улыбкой:
— А вы меня не признаете, Герасим Силыч? Не узнали меня?
— Не могу признать, — сухо ответил Герасим.
— Как же это так, сударь мой? — молвила тетка Арина, ближе и ближе к нему подступая. — Да вы вглядитесь-ка в меня хорошенько… Как бы, кажись, меня не узнать, хоть и много с тех пор воды утекло, как вы нашу деревню покинули? Неужто не узнали?
— Нет, — с досады хмуря лоб, отрывисто ответил Герасим. — Не могу вас признать.
— А ведь у вас сызмальства память острая такая была, сударь мой Герасим Силыч, — покачивая головой, укорила его тетка Арина. — Да ведь мы от родителей-то от ваших всего через двор жили… Исаину избу нешто забыли? Я ведь из ихней семьи — Арина. Вместе, бывало, с вами в салазках катались, вместе на качелях качались, вместе по ягоды, по грибы, по орехи хаживали… При вашей бытности и замуж-то я выходила за Миронова сына. Помните чать Мирона-то. Вскрай деревни у всполья изба была с зелеными еще ставнями, расшивка на воротах стояла?[284].
— Что-то не помнится, — нехотя ответил Герасим.
— Коротка же у вас стала память! Коротенька!.. — продолжала тетка Арина обиженным голосом. — Ну а сами-то вы, сударь, в каких странах побывали?
— В разных местах, всего не припомнишь.
— Коротенька память, коротенька!.. — продолжала свое неотвязная тетка Арина. — Где же вы в последнее-то время, сударь мой, проживали, чем торговали?
— По разным местам проживал, — сквозь зубы промолвил Герасим и, отворотясь от надоедницы, высунул голову в окошко и стал по сторонам смотреть.
— Видно, где день, где ночь, куда пришел, тотчас и прочь… Дело! — насмешливо молвила Арина Исаишна.
Герасим больше не отвечал. Молчал и Абрам с Пелагеей. Дети, не видавшие дома такой лакомой еды, какую принес отец, с жадностью пожирали ее глазами, и как ни были голодны, но при чужом человеке не смели до нее дотронуться. Стала было тетка Арина расспрашивать Абрама, где был-побывал его брательник, чем торг ведет, где торгует, но Абрам н сам еще не знал ничего и ничего не мог ей ответить. А уж как хотелось закусочнице хоть что-нибудь разузнать и сейчас же по деревне разблаговестить. Увидела она, наконец, что, видно, хоть вечер и всю ночь в избе у Абрама сиди, ничего не добьешься, жеманно сузила рот и вполголоса хозяйке промолвила:
— Опростала бы ты мне, Филиппьевна, посудинку-то. Пора уж, матка, домой мне идти. Мужики, поди, на лужайке гуляют, может им что-нибудь и потребуется. Перецеди-ка квасок-от, моя милая, опростай жбан-от… Это я тебе, сударыня, кваску-то от своего усердия, а не то чтобы за деньги…
Да и ягодки-то пересыпала бы, сударыня, найдется, чай, во что пересыпать-то, я возьму; это ведь моя Анютка ради вашего гостя ягодок набрала.
Низко поклонилась и поблагодарила тетку Арину Пелагея. Ягоды высыпала на лавку в стряпном углу, а квас не во что было ей перелить, опричь пустого горшка из-под щей. С злорадством глядела тетка Арина на ее смущенье, и злоба ее разбирала при мысли, что пришел конец убожеству Чубаловых. А когда домой шла, такие мысли в уме раскидывала. "Чем лукавый не шутит? Заживет теперь Палашка — рвана рубашка, что твоя барыня. Шутка сказать, три воза товаров, да воза-то все грузные, один опростали, и то чуть не все сени коробами завалили… А деньжищ-то что, чать, у него лоботряса!..
Видимо-невидимо, казна бессчетная. А он, побродяга, и говорить-то со мной не хотел… Слова от проклятика не добилась. «Забыл да не помню» — только и речей от него. Может, по ночам на большой дороге да в лесу торговал, мерил не аршином, а топором да кистенем… Где пятнадцать-то годов, в самом деле, шатался, по каким местам, по каким городам? Еще угодишь, может быть, к дяде в каменный дом…[285] Не увернешься, разбойник, не увернешься, душегубец… А Палашка-то, Палашка-то, поди-ка, как нос-от вверх задерет…
Фу ты, ну ты, вот расфуфырится-то!.. Ведьма ты этакая, эфиопка треклятая! Первым же бы сладким куском тебе подавиться, свету бы божьего тебе не взвидеть, ни дна бы тебе, ни покрышки, ни дыху[286], ни передышки!.. Приступу к ней не будет, поклонов ото всех потребует… Только уж ты на меня, сударыня, не надейся, моих поклонов вовеки тебе не видать, во всю твою жизнь не дождаться. И не жди их, анафемская душа твоя! И не жди, поганая!.."
И уж чего-то, чего не наплела тетка Арина про Чубаловых, придя на лужайку, где пьянствовал на даровщину сосновский мир-народ.
***
Только что вышла тетка Арина, Абрам положил перед братом на стол сколько-то медных денег и молвил ему:
— Сдача.
— Что же ты, братан, не послушал меня? Сказано было тебе, на все покупай. Зачем же ты этак?.. — попрекнул брата Герасим.
— Брать-то больше нечего, — ответил Абрам. — Что видишь, только-то и было у Арины в закусочной.
— Так пряников бы побольше купил, — молвил Герасим.
— Зачем, родимый? — вступилась Пелагея. — И того с них станет, ведь они у нас к этому непривычны. И то должны за счастье почесть.
— Так возьми же ты эти деньги к себе, невестушка, да утре похлопочи, чтобы ребятишкам было молоко, — молвил Герасим, подвигая к Пелагее кучку медных.
— Моёко, моёко! — закартавил и радостно запрыгал веселенький Саввушка. Глазенки у него так и разгорелись, все детишки развеселились, улыбнулся даже угрюмый Максимушка.
— Право, напрасно, родной, — легонько отодвигая от себя деньги, говорила Пелагея. — Они ведь у нас непривычны.
— Так пусть привыкают, — перебил Герасим. — Как же это можно малым детям без молока?.. Особенно этой крошке, — прибавил, указывая на зыбку. — Нет, невестушка, возьми, не обижай меня. Да не упрямься же. Эк, какая непослушная! Взяла деньги Пелагея, медленно отошла к бабьему куту и, выдвинув из-под лавки укладку[287], положила туда деньги. На глазах опять слезы у ней показались, а Абрам стоял перед братом, ровно не в себе — вымолвить слова не может.
— Садитесь, родные, закусим покамест, — весело сказал Герасим. — А ты, невестушка, хозяйничай. Иванушка, Гаврилушка, тащите переметку[288], голубчики, ставьте к столу ее. Вот так. Ну, теперь богу молитесь. И все положили по семи поклонов перед иконами.
— Усаживайтесь, детушки, усаживайтесь. Вот так. Ну, теперь потчуй нас, хозяюшка, да и сама кушай.
Пелагея накрошила коренной с маленьким душком рыбы и хлеба в щанную[289] чашку, зеленого луку туда нарезала, квасу налила. Хоть рыба была голая соль, а квас такой, что, хлебни, так глаза в лоб уйдут, но тюря[290] голодной семье показалась до того вкусною, что чашка за чашкой быстро опрастывались. Ели так, что только за ушами трещало.
— А вам бы, ребятки, не больно на тюрю-то наваливаться; питье одолеет. Бог пошлет, получше вам будет еда, — сказал Герасим. — Хозяюшка, давай-ка сюда яйца…
После яиц и пирога с молитвой поели, большие пивца испили, малых дядя ягодами оделил.
Встали из-за стола, богу помолились, и Абрам, громко зарыдав, младшему брату в ноги поклонился.
— На доброте на твоей поклоняюсь тебе, братец родной, — через силу он выговаривал. — Поклон тебе до земли, как богу, царю али родителю!.. За то тебе земной поклон, что не погнушался ты моим убожеством, не обошел пустого моего домишка, накормил, напоил и потешил моих детушек.
Ознакомительная версия.