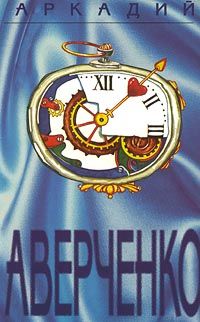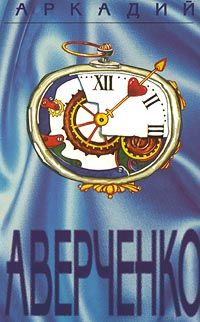— И не говорите! — вскричал барон Вурст. — Вчера мы устроили русский обед и по обычаю тому ли русскому — пробовали лаптем щи хлебать. Ужасно неудобно. Капает на брюки, протекает, а капусту из носка лаптя приходится вилкой выковыривать.
— О, русски народ — глюпи шеловек. Ми тоже позавчерась пробовал сделайт искони русски свичай-обичай: лева ногой сморкаться. Эта таки трудни номер.
— Виноват, — возразил новоприбывший националист. — Вы немного напутали. Действительно, у русского народа есть такие выражения, но они имеют частицу отрицания «не». Говорят: «я тоже не левой ногой сморкаюсь», или: «мы не щи хлебаем».
— А, черт возьми, действительно, верно! Какой удар!
Однако ты, гой еси, детинушка, действительно, хорошо знаешь русский свычай-обычай.
— Еще бы! Да вот вы, например, все время твердите, как попугай: гой еси, да гой еси! А вы знаете, что гой — это еврейское слово? Гой по-еврейски значит — христианин?
Из угла вдруг поднялся молчавший до сих пор угрюмый националист.
— А и куда же ты, детинушка, собрался?
— А и ну вас всех к черту. Думал я, что по-русски мы живем и разговариваем по-нашему, по-исконному, а тут тебе и по-греческому, и по-жидовскому, и щи лаптем хлебают, и левой ногой сморкаются… Исполать вам, гой еси, чтоб вы провалились.
— Пойдем и мы, — сказали двое мрачных людей. Вздохнули, потоптались на месте и ушли.
— И хорошо, что ушли, — воскликнул старшина. — Все равно не надежны были. Зато теперь остался самый настоящий националист, крепкий. Ребятушки, чем займемся?
— Да чем же… давайте телеграмму Плевицкой пошлем.
— А и дело говорите. Исполать вам. Пишите. «Ой-ты, гой еси, наша матушка Надежда ли Васильевна! Земно кланяемся твоему истинно национальному дарованию а молчим на мнагая лета тебе на здоровьица на погибель инородцам. Поднимаем ендову самоцветную с брагой той ли шипучей!»
— Подписывайтесь, детинушки! И все расписались:
— Барон Шлиппенбах. Граф Стенбок. То ли барон Вурст. Гой еси барон Кригс. А и тот ли жандармский ротмистр Шпице фон Дракен.
— Все подписались?
— Я не подписался, — застенчиво сказал новопоступивший националист.
— Так подписывайтесь же!
И он застенчиво подписал:
— Семён Яковлевич Хацкелевич, православный.
— А вы, видно, опытный путешественник, — заметил я.
— Да… по своей профессии мне приходится носиться чуть ли не по всему земному шару.
Я вопросительно взглянул на своего спутника.
— Да… А какая ваша профессия?
— Я борец. Чемпион мира.
Из деликатности я не удивился. Покачал головой и сказал:
— Ага, вот оно что… Вам в Харькове выходить?
— В Харькове.
— Терпеть не могу этого городишки: уныл, грязен и неблагоустроен. Но народ там живет хороший.
Мы помолчали.
Чемпион мира искоса наблюдал за мной; потом не выдержал и, потрепав меня по плечу, сказал:
— Вы меня удивляете.
— Чем?
— Первый раз такого человека встречаю. Обыкновенно мы, борцы, несчастные люди. Стоит только какому-нибудь новому знакомому узнать о нашей профессии, как этот субъект считает своим долгом пощупать у нас на руках мускулы и потом завести длиннейший разговор о борцах, о физической силе, о каких-то самородных чудесных силачах, ломовиках из народа и о прочем таком. Он думает, что ни о чем другом мы разговаривать не можем. Вспомнит он Фосса, которого он видел пятнадцать лет тому назад, еще раз пощупает мускулы на наших ногах, а потом даст пощупать и свои руки. Дескать, есть ли у него что-нибудь в этом роде? И уж он тянет, тянет скучнейший разговор о вещах, от которых хочешь уйти, которые и так надоели до смерти… Вы, кажется, первый человек, который по-настоящему отнесся ко мне. Остальные же считают каким-то хорошим тоном говорить с человеком о том, что у того и так вот тут сидит.
Он звучно похлопал себя по широкому могучему затылку.
В вагон в это время вошел новый пассажир. Сразу видно было в нем живого, общительного человека. Он опустился около меня на диван, снял шляпу, вытер платком лоб и без обиняков обратился к чемпиону:
— Далеко едете?
— В Харьков.
— Охота вам ехать в эту дыру! Там теперь и делать нечего.
— Ну, как вам сказать, — дело найдется. Положу десятка два на обе лопатки — вот вам и дело.
— Как, вы разве борец?
— Борец.
— Да неужели? Что вы говорите?
— Ей-богу.
— Вот как. То-то я смотрю. Разрешите попробовать мускулы.
— Пожалуйста.
— Ого! Прямо канаты какие-то… А скажите, что борьба не опасна? Говорят ведь, смертью иногда кончается.
— Бывает.
— Кто же у вас в чемпионате?
— Да много народу. Из известных. Пахута, Эмиль де Бен, Папа-Костоцуло, Ильяшенко…
— Скажите, а где теперь Фосс?
— Фосс давно уже на покое.
— Вот был борец, действительно! Ручища невероятная. Ноги, как столбы… А у вас ноги хорошие?
— Ничего, спасибо.
— Разрешите попробовать? Ого! Стальные прямо. А попробуйте-ка у меня руки? Как вы думаете, стоит их развивать?
Общительный незнакомец сжал руку и протянул ее чемпиону.
— Ну, что ж. Кое-что есть.
— Не правда ли? Когда-то я два пуда выжимал. А вот у нас, в Ростове, на пристани, был один грузчик, — это прямо-таки нечто невероятное. Поднимет, шутя, двадцать пудов и бегает.
Чемпион вздохнул и устало спросил:
— Где же он теперь?
— Не знаю. А то у нас, на станции Раздельной, был смазчик, так можете поверить, — стан колес вагонных подымал. Если бы ему пойти куда-нибудь бороться, так он чудес бы наделал!
Очевидно, разговор был исчерпан, так как воцарилось длительное молчание.
Общительный пассажир снова вынул платок, вытер лоб и, промурлыкав какую-то песенку, спросил:
— А где теперь Лурих?
— В Варшаве.
— А Пытлясинский?
— За границей.
— Тэ-з-к-с. Трудно бороться?
— Как кому. Все от тренировки зависит.
— А вот, у моего отца приказчик был, так он вызывал желающих бороться с ним — все боялись. Он сделал в цирке скандал и ушел. Пойти покурить, что ли…
* * *
Когда общительный пассажир ушел, чемпион подмигнул мне и сказал:
— Видали фрукта? Вот все они такие. Он так может всю дорогу проговорить. Прямо-таки вы первый человек такой особенный.
— Ну, — возразил я, улыбнувшись, — должна же моя профессия научить меня такту, чутью и оригинальности…
— А вы, простите, чем занимаетесь?
— Я — писатель.
— Неужели? Где же вы пишете?
— В журналах, газетах…
— А скажите, когда вы садитесь за стол, то у вас уже есть тема?
— Почти всегда.
— Вот я не понимаю, как это может прийти в голову тема? Кажется, сиди, сиди и век не выдумаешь.
Я пожал плечами:
— Все зависит от тренировки.
— Я один раз тоже написал рассказ. Потерял куда-то. Если найду — пришлю вам прочесть… Ладно?
— Пожалуйста…
— У меня в Лодзи был один знакомый писатель — Коля Вычегодзе. Может быть, знаете?
— Нет, не слыхал.
— Он тоже рассказы, стихи писал. Слушайте… вот скажите ваше мнение: здорово ведь писал Некрасов?
— Да, хорошо.
— Мне тоже нравится. А скажите, правда, что он драл своих крестьян и проигрывал их в карты?
— Ну, это так… сплетни.
— Вы и стихи пишете?
— Нет, не пишу…
— Труднее. Вот этот Коля Вычегодзе и стихи писал.
Чемпион мира замолчал, хлопая себя по руке ремнем от оконной рамы. Я думал, что разговор кончился.
Но чемпион посвистал немного, зевнул, прикрыв рот рукой, и спросил:
— А где сейчас Куприн?
— Не знаю, кажется, за границей.
— Слушайте, а вот Андреев… Что хотел сказать своей Анатемой… Я, собственно, так и не понял.
Я устало взглянул на него. Нехотя промямлил:
— Вещь глубокая, философская…
— Тэ-эк-с, тэ-эк-с. А скажите, Горький что-нибудь теперь пишет? Вот ведь гремел когда-то. Не правда ли?
— Да, — подтвердил я. — Гремел. Они с Фоссом гремели. Слушайте, кстати, правда, что Фосс мог на плечах шестьдесят пудов выдержать?
Чемпион мира сразу осунулся и скучающе пожал плечами.
— Шестьдесят пудов, это можно выдержать.
— Слушайте, а где теперь Абс?
— Умер.
— Неужели? А Лурих где борется?
Чемпион ничего не ответил. Он мрачно встал и принялся укладывать вещи.
Это, вероятно, был первый случай, когда чемпион мира был побежден, был положен на обе лопатки мирным, слабым писателем.
Однажды, вскоре после того как я приехал в Петербург искать счастья (то было четыре года тому назад), мне вздумалось зайти закусить в один из самых больших и фешенебельных ресторанов.
Об этом ресторане до сих пор я знал только понаслышке. И вошел я в его монументальный огромный зал с некоторым трепетом.