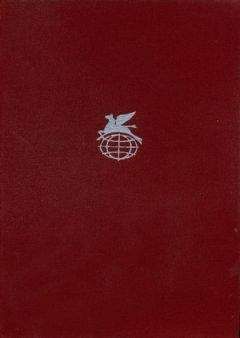— Уж не увидимся больше, заедешь ты, непоседа, далеко, а я — помру…
За последнее время я отошёл от милой старухи и даже редко видел её, а тут, вдруг, с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека, так плотно, так сердечно близкого мне.
Стоял на корме парохода и смотрел, как она там, у борта пристани, крестится одной рукою, а другой — концом старенькой шали — отирает лицо своё, тёмные глаза, полные сияния неистребимой любви к людям.
И вот я в полутатарском городе, в тесной квартире одноэтажного дома. Домик одиноко торчал на пригорке, в конце узкой, бедной улицы, одна из его стен выходила на пустырь пожарища, на пустыре густо разрослись сорные травы, в зарослях полыни, репейника и конского щавеля, в кустах бузины возвышались развалины кирпичного здания, под развалинами — обширный подвал, в нём жили и умирали бездомные собаки. Очень памятен мне этот подвал, один из моих университетов.
Евреиновы — мать и два сына — жили на нищенскую пенсию. В первые же дни я увидал, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу: как сделать из небольших кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трёх здоровых парней, не считая себя самоё?
Была она молчалива; в её серых глазах застыло безнадёжное, кроткое упрямство лошади, изработавшей все силы свои: тащит лошадка воз в гору и знает — не вывезу, — а всё-таки везёт!
Дня через три после моего приезда, утром, когда дети ещё спали, а я помогал ей в кухне чистить овощи, она тихонько и осторожно спросила меня:
— Вы зачем приехали?
— Учиться, в университет.
Её брови поползли вверх вместе с жёлтой кожей лба, она порезала ножом палец себе и, высасывая кровь, опустилась на стул, но, тотчас же вскочив, сказала:
— О, чорт…
Обернув носовым платком порезанный палец, она похвалила меня:
— Вы хорошо умеете чистить картофель.
Ну, ещё бы не уметь! И я рассказал ей о моей службе на пароходе. Она спросила:
— Вы думаете — этого достаточно, чтоб поступить в университет?
В ту пору я плохо понимал юмор. Я отнёсся к её вопросу серьёзно и рассказал ей порядок действий, в конце которого предо мною должны открыться двери храма науки.
Она вздохнула:
— Ах, Николай, Николай…
А он, в эту минуту, вошёл в кухню мыться, заспанный, взлохмаченный и, как всегда, весёлый.
— Мама, хорошо бы пельмени сделать!
— Да, хорошо, — согласилась мать.
Желая блеснуть знанием кулинарного искусства, я сказал, что для пельменей мясо — плохо, да и мало его.
Тут Варвара Ивановна рассердилась и произнесла по моему адресу несколько слов настолько сильных, что уши мои налились кровью и стали расти вверх. Она ушла из кухни, бросив на стол пучок моркови, а Николай, подмигнув мне, объяснил её поведение словами:
— Не в духе…
Уселся на скамье и сообщил мне, что женщины вообще нервнее мужчин, таково свойство их природы, это неоспоримо доказано одним солидным учёным, кажется — швейцарцем. Джон Стюарт Милль, англичанин, тоже говорил кое-что по этому поводу.
Николаю очень нравилось учить меня, и он пользовался каждым удобным случаем, чтобы втиснуть в мой мозг что-нибудь необходимое, без чего невозможно жить. Я слушал его жадно, затем Фукс, Ларошфуко и Ларошжаклен сливались у меня в одно лицо, и я не мог вспомнить, кто кому отрубил голову: Лавуазье — Дюмурье, или — наоборот? Славный юноша искренно желал «сделать меня человеком», он уверенно обещал мне это, но — у него не было времени и всех остальных условии для того, чтоб серьёзно заняться мною. Эгоизм и легкомыслие юности не позволяли ему видеть, с каким напряжением сил, с какой хитростью мать вела хозяйство, ещё менее чувствовал это его брат, тяжёлый, молчаливый гимназист. А мне уже давно и тонко были известны сложные фокусы химии и экономии кухни, я хорошо видел изворотливость женщины, принуждённой ежедневно обманывать желудки своих детей и кормить приблудного парня неприятной наружности, дурных манер. Естественно, что каждый кусок хлеба, падавший на мою долю, ложился камнем на душу мне. Я начал искать какой-либо работы. С утра уходил из дома, чтоб не обедать, а в дурную погоду — отсиживался на пустыре, в подвале. Там, обоняя запах трупов кошек и собак, под шум ливня и вздохи ветра, я скоро догадался, что университет — фантазия и что я поступил бы умнее, уехав в Персию. А уж я видел себя седобородым волшебником, который нашёл способ выращивать хлебные зерна объёмом в яблоко, картофель по пуду весом и вообще успел придумать не мало благодеяний для земли, по которой так дьявольски трудно ходить не только мне одному.
Я уже научился мечтать о необыкновенных приключениях и великих подвигах. Это очень помогало мне в трудные дни жизни, а так как дней этих было много, — я всё более изощрялся в мечтаниях. Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай, но во мне постепенно развивалось волевое упрямство, и чем труднее слагались условия жизни — тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создаёт его сопротивление окружающей среде.
Чтобы не голодать, я ходил на Волгу, к пристаням, где легко можно было заработать пятнадцать — двадцать копеек. Там, среди грузчиков, босяков, жуликов, я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскалённые угли, — каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там предо мною вихрем кружились люди оголённо жадные, люди грубых инстинктов, — мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Всё, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду. Брет-Гарт и огромное количество «бульварных» романов, прочитанных мною, ещё более возбуждали мои симпатии к этой среде.
Профессиональный вор Башкин, бывший ученик учительского института, жестоко битый, чахоточный человек, красноречиво внушал мне:
— Что ты, как девушка, ёжишься, али честь потерять боязно? Девке честь — всё её достояние, а тебе — только хомут. Честен бык, так он — сеном сыт!
Рыженький, бритый, точно актёр, ловкими, мягкими движениями маленького тела Башкин напоминал котёнка. Он относился ко мне учительно, покровительственно, и я видел, что он от души желает мне удачи, счастья. Очень умный, он прочитал немало хороших книг, более всех ему нравился «Граф Монте-Кристо».
— В этой книге есть и цель и сердце, — говорил он.
Любил женщин и рассказывал о них, вкусно чмокая, с восторгом, с какой-то судорогой в разбитом теле; в этой судороге было что-то болезненное, она возбуждала у меня брезгливое чувство, но речи его я слушал внимательно, чувствуя их красоту.
— Баба, баба! — выпевал он, и жёлтая кожа его лица разгоралась румянцем, тёмные глаза сияли восхищением. — Ради бабы я — на всё пойду. Для неё, как для чорта, — нет греха! Живи влюблён, лучше этого ничего не придумано!
Он был талантливый рассказчик и легко сочинял для проституток трогательные песенки о печалях несчастной любви, его песни распевались во всех городах Волги, и — между прочими — ему принадлежит широко распространённая песня:
Не красива я, бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берёт
Девушку за это…
Хорошо относился ко мне тёмный человек Трусов, благообразный, щеголевато одетый, с тонкими пальцами музыканта. Он имел в Адмиралтейской слободе лавочку с вывеской «Часовых дел мастер», но занимался сбытом краденого.
— Ты, Пешков, к воровским шалостям не приучайся! — говорил он мне, солидно поглаживая седоватую свою бороду, прищурив хитрые и дерзкие глаза. — Я вижу: у тебя иной путь, ты человечек духовный.
— Что значит — духовный?
— А — в котором зависти нет ни к чему, только любопытство…
Это было неверно по отношению ко мне, завидовал я много и многому; между прочим, зависть мою возбуждала способность Башкина говорить каким-то особенным, стихоподобным ладом с неожиданными уподоблениями и оборотами слов. Вспоминаю начало его повести об одном любовном приключении:
«Мутноокой ночью сижу я — как сыч в дупле — в номерах, в нищем городе Свияжске, а — осень, октябрь, ленивенько дождь идёт, ветер дышит, точно обиженный татарин песню тянет; без конца песня: о-о-о-у-у-у…
…И вот пришла она, лёгкая, розовая, как облако на восходе солнца, а в глазах — обманная чистота души. «Милый, — говорит честным голосом, — не виновата я против тебя». Знаю — врёт, а верю — правда! Умом — твёрдо знаю, сердцем — не верю, никак!»
Рассказывая, он ритмически покачивался, прикрывал глаза и часто мягким жестом касался груди своей против сердца.
Голос у него был глухой, тусклый, а слова — яркие, и что-то соловьиное пело в них.
Завидовал я Трусову, — этот человек удивительно интересно говорил о Сибири, Хиве, Бухаре, смешно и очень зло о жизни архиереев, а однажды таинственно сказал о царе Александре III: