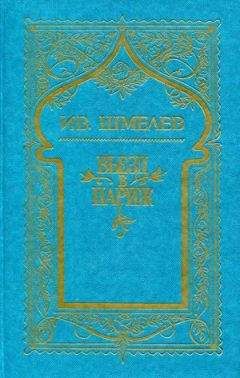Трудно все это выразить словами, и не об этом хочу сказать. Из поездки в Псковщину самым острым во мне осталось – странное чувство рубежа, впервые испытанное мною.
Туманное утро, холодновато, зябко. Автомобиль выбирается из проселочных буераков на шоссе. Шоссе старинное – тракт: Санкт-Петербург – Псков – Рига, ровное, как стрела. Машина идет странно, все вертится справа налево, и опять направо, и опять налево. Что такое? «Фортификация», – говорит парень, за шофера. Что?! «Чтобы задержать наступление врага! – мотает он головой ко Пскову. – Он и задержится, дорога-то перерыта канавками, то с этой стороны, то сажен пять с другой… задержится… а его они будут из пулеметов поливать… последнее слово военной фортификации…» Говорит без усмешки, кажется. И открывается, наконец: «А покуда мокрая погода, килек напустят в канавки, все-таки доходишка». А я думаю: «Вон что… сознание превосходства в парне». И вспоминаю вчерашний разговор с дедом на завалинке двухсотлетнего дома, срубленного из корабельного леса, времен Петра: «Он мне ласково говорит… ихний… празиден, называют его так… ты, старик, не бойся меня… А я ему говорю: «а чего мне тебя бояться? я самого царя не боялся, хлеб-соль подносил… а тебя я буду бояться! в пинжаке – бояться! А ты скажи чинам твоим, зачем не велят робятам по-нашему петь в трактире? чего они наших песнев боятся? ты им накажи, стро-го… Как сами пьяны напьются, наши песни кричат без толку, а нашим сапожникам в трактире не велят играть, а? Пусть наших песнев не боятся».
В полуверсте от рубежа – караульный дом. Не совсем охотно дается разрешение на посещение «границы». Строгое предписание: не говорить с красными пограничниками, «не раздражать». Рубеж. Кустики, болотца – по ту сторону; с этой стороны – те же кустики, и у самой проволоки сторожевая вышка. Там часовой, в зеленом. Русского языка не понимает, по-немецки может. Я не верю: здесь не раз за день проходят советские, попарно, переговариваются: часовой должен понимать по-русски, вслушиваться, о чем разговор. Входим на вышку. Неожиданно говорю: «Дайте мне взглянуть в ваш…». Часовой снимает с шеи полевой бинокль, дает. Отлично понимает.
Пустое поле, за грядкой кустиков, в стороне какие-то постройки, – там, говорят, комендатура. Гепеу. Были деревушки – снесли. Пустыня. Мертвая страна, но где-то тут… таится что-то, – такое во мне чувство. И оно вот-вот скажется, и я узнаю тайну. Меня влечет – туда. Я не могу стоять на вышке. Я хочу ступить, коснуться родной земли. Вот проволока, в пять рядов, на кольях, – все обычно. Пограничный столб, красное с зеленым, на утолщении выжжены серп и молот. Я подхожу вплотную, не слушая окриков эстонца, который может стрелять. Пусть стреляет. Там – только кустики, пустая боловатая дорога-стрела на Псков. Серо, пустынно там. И вдруг – луч солнца, из щелки в тучах, и вижу… – снежное яичко! – там, на конце стрелы. Оно блистает, как серебро. Он влечет к себе, сияньем. Это собор открылся. Блеснул оконцем, белизной стен, жестью. И – погас. Странное чувство – ненастоящего, какой-то шутки, которая вот кончится. Так я воспринимаю это заграждение, «предел пути». «Отойдите! – кричит эстонец по-немецки, по-русски все-таки не хочет! – Могут убить!».
Я не ухожу. Это же шутка – и преграда, и пустота, и «убить». Там – все мое, века мое, всегда мое. И оно, не мое, меня зовет.
«Смотрите… идет… вон, из кустов… – шепчет мне спутник и кричит: – Здравствуйте!» Я вижу солдата, в зеленой куртке, крепкого, статного, с медным загаром, с винтовкой за плечом. Он молча глядит на нас, выходит на дорогу. Бывало, отвечали бранью. Бывало, отзывались свысока: «Ну, как вы там, на вашем хуторе, живете?» Все, что вне их, – лишь хутор, мелочишка, так. Я пытливо жду, что будет. Солдат оглядывается на Псков, вынимает из кармана куртки… чистый, белый платок и трижды машет нам. Что это, привет? Да, несомненно. Круто повертывается и четким солдатским шагом уходит туда, на Псков. Должно быть, смена караула, полдень.
Мы смотрим, долго смотрим. Он все уходит, все мутнеет, этот солдат зеленый. Идет на Псков, к собору, укрывшемуся в мутной дали. Сквозь сеточку дождя ли, слез ли… – белеется дорога, как стрела, кусты, болотца, рябина в гроздьях, дымок… тяжелые вороны или грачи полетывают над полями… – все мое, родное. Откуда же рубеж, что за рубеж? Там Псков, соборы, давнее мое, святое… И здесь, за мной, со мной, мой, давний, крепость-монастырь. Изборск, Печоры, дед, детские глаза, родные песни, булыжники… – спотыкнулся! – все кругом дышит знакомым, родным, моим. Мой воздух, древние мои поля, родимые. Рубеж… – сон, наважденье, шутка? И горечь, горечь.
Апрель,1940
Париж
Светлой памяти
Умученных и павших за Россию.
Доблестной Чести
За Нее бившихся и верою в Нее живущих.
Я раскрыл журнал «Студенческие Годы», – и мне попались стихи:
Кто написал так – про юность?!
Речной песок, приставший к колесу,
Оторванный проселочной дорогой.
Бренчит телега. Плачет колесо:
Который раз отсчитывает версты?
О, юность мертвая…
Я читал дальше…
Ночь и ночь, и нет исхода…
Нет исхода…
Перепутьями, ночами –
Одиноки плачем мы,
. . . . . . . . . .
Вьются вихри жгучей боли,
Льются слезы без конца,
Не видать нам в темном поле
Лучезарного Лица!
Какое отчаяние… Кто это? И кто оно, Лучезарное Лицо это?!
И слышу, как за мной ползут –
Пожары, казни и разгромы…
. . . . . . . . . .
А Русь?!.. О, Господи, ответь!..
Оно проступило в ночной тиши, и я узнал, я понял… Я узнал исхудавшие, почерневшие лица, истертые шинели и – глаза, глаза… Я увидал поля – снега, реки в разливах, жгучее солнце степи, горы, леса… и их крученое железо, русское железо! Я вспомнил, как оно закаливалось в сталь. Оно… плачет?! Сталь звенит, сверкает, бьет… – и никогда не плачет! Плачет – медь. Сталь никогда не мнется.
Я увидал еще… я вспомнил все. Да, может и сталь заплакать, но… как?!
Явись Венчанная Жена!
Качни возмездия светила!!
Только так. Так плачут бури.
Я узнал, кто это. Это – они, обманутые жизнью. Ваши, мои, наши, – русские бойцы, разбросанные теперь по свету, – от Африки до Калифорнии, от Боснии до Парижа, до Марселя, до… Где конец?.. Это – наши дети и наши братья. Это – Россия.
Я хочу говорить о них.
* * *
Третий год Великой Войны кончался. Новые наборы, новые маршевые колонны. Солдаты, офицеры, – видавшие не раз смерть. В бой снова, снова.
Они появлялись на день, на два, – присесть у родного огонька, согреть душу… На свежей, забытой простыне; на свежей соломе, с родного поля. Мы – живы! одолеем! Россия…
Это слово каждый таил в себе. Не поминали всуе. За что же болеть – биться? за что же – «себя отвергнуть»?! Вот за это, – маленькое как будто: за эти стены, за этот лесок, за эту, мою церковь, за снега – поля, за дали, за – Россию. За весны и зимы эти, за осени непогожие, за воздух, которого нет нигде! За старый, мой Кремль, – за все мое, за русское увязанное Калитой, и Грозным, и Петром, благословленное из далей Славными, Святыми… За наше небо, за грозы-зори, за счастье говорить и думать на моем, чудесном языке… И – надо всем – Она, прекрасная Немая, – Родина, Россия, греза грез, но… без Кого – нельзя!
Надо знать тоску и боль разлуки, тревоги, – и надежды!
Все ясней надежды. Конец все ближе. Силы на исходе, но… скоро, скоро!
А пришло другое: смута. Опять сначала?! Все насмарку! Все смерти, муки, миллионы благословений, в затертых письмах, надежд, обетов! Напряженье бесконечных дней-годов, боев, опасностей… миллионы ран, болезни, море крови, ночи без сна, ночи голодные, снега, дожди, дожди… смрадная грязь окопов… – все стерто?! Кто посмел на это?!!
Далеко, за фронтом, все решили – без них – взбунтованные толпы, слабость власти, рок…
В награду дали… приказ бесчестья! Подлостью – одних, преступной слабостью других, – приказ бесчестья. Сотни тысяч ответственных бойцов предали: бросили в бесчестье, в травлю, в смуту, – чутких к чести, молодых, сменивших другие сотни тысяч – уже забытых по чужим полям.
Я помню письма… Недоумение и боль. За что?!!
Впереди, в тылу, кругом – враги. Не свои, а орды буйной черни, вооруженной, которой брошено намеком: ну, можешь!.. Невидимые своры «друзей свободы» – зудят, кричат: «чего на них смотреть? им выгодно! домой, за землю!» А впереди – враг, и – надо стоять и сдерживать. Сдерживать и этих, серых, сбитых с толку, смутных. Уже расправились в Свеаборге, на Юге, в Выборге, под Ригой, – поубивали, пошвыряли в море, – лучших. Душу вынимали по кусочкам, по плану, – всюду.