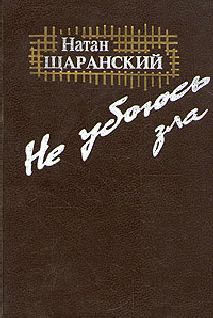Так делился я с семьей невеселыми размышлениями, не имея воз-можности объяснить, чем они вызваны. Но когда впоследствии, на воле, я рассказал о тех своих сомнениях Авитали, она ответила:
Не понимаю, в чем проблема. Ведь ясно, что если бы ты изменил себе ради меня, то тем самым ты изменил бы и мне.
8. ТРУБНЫЙ ЗВУК ШОФАРА
Осень восемьдесят четвертого года. Кончается мой второй тюрем-ный срок. Опять мне предстоит этап в зону, а там, может, и сви-дание с родственниками!
Я заранее предвкушаю удовольствие от смены обстановки, от новых встреч в пути, от весьма поучительных и информативных бесед с быто-виками, но меня ожидает разочарование, на этот раз я еду спецэтапом, в отдельном "воронке", с "персональным" конвоем. В "Столыпине" у две-рей моего купе-"тройника" все время стоит мент и пресекает любые по-пытки зеков заговорить со мной. Лишь на последнем этапном перегоне -- от Пермской тюрьмы до зоны -- у меня появится попутчик, Виктор Полиэктов, о котором я расскажу ниже.
...В свою родную тридцать пятую зону я попадаю ночью. Кромешная тьма перечеркнута ослепительной белой полосой, это блестит в "запретке" снег под ярким светом прожекторов. Поведут прямо -- значит, сразу в зону, направо -в ШИЗО, налево -- в больницу. Как и пять лет на-зад, меня ведут налево. Что ж, провести в больнице на карантине десять дней совсем не плохо; помню, как попав туда впервые и проснувшись утром, я даже решил, что нахожусь на воле... Но на этот раз я провел в больнице целых два месяца.
С точки зрения моего физического состояния это было, безусловно, самое "здоровое" время с момента ареста. Я получал больничное пита-ние, как за два года до этого, после голодовки, более того, мне не воз-бранялось просить добавку: мясной суп, кашу -- и я начал стремительно прибавлять в весе.
Медицинское обследование подтвердило старый диагноз: вегето-сосудистая дистония и дистрофия миокарда. Меня начали лечить укола-ми, таблетками, витаминами... В итоге сердце стало работать с каждым днем все четче; я буквально наливался силой.
Прогулка была двухчасовой, и не в каменном мешке тюремного двора, а среди берез и елей, утопавших в глубоком снегу, и колю-чая проволока, которой обнесен крохотный участок леса, где я мог свободно передвигаться, не могла отгородить меня ни от потряса-ющих северных закатов, ни от чистого морозного воздуха. Казалось бы, такая прекрасная перемена в судьбе! И все же ГУЛАГ оставал-ся ГУЛАГом...
В первый же день после приезда в зону я потребовал свидания с родственниками, личного свидания, положенного на лагерном режиме раз в году, и которого у меня не было уже пять лет. Я спешил отстоять свои права, пока меня не лишили встречи с родными "за плохое поведение". Но не тут-то было. Мой старый приятель Осин, с которым мы ког-да-то так славно отметили Хануку, пояснил мне, добродушно улыбаясь:
-- Я не могу дать вам свидание в больнице. Врач говорит, что вас еще надо лечить. А вдруг вам во время свидания станет плохо? Не дай Бог -инфаркт?
Все мои письма, в которых я сообщал о том, что встреча откладыва-ется, так как нахожусь в больнице, конфисковывались. Даже короткое послание: добрался, мол, из тюрьмы до зоны благополучно, не прошло цензуру. Я не понимал, в чем дело, и не знал, как на это реагировать.
Родные и друзья на воле, конечно же, были в панике: я ушел на этап -- и исчез. Если я в лагере, то почему от меня нет вестей? Ведь из зоны можно отправлять два письма в месяц! Почему нет официального сооб-щения администрации о моем прибытии? По закону они должны изве-стить об этом семью немедленно! Отчаявшись получить ответ от совет-ских инстанций, мои близкие обращались в Международный Красный Крест, к западным правительствам и общественным деятелям, но и те не могли их ничем успокоить.
А я тем временем поправлялся, укреплял сердце -- и безуспешно во-евал с местным начальством за право послать на волю весточку о себе.
Через два месяца, когда я уже решил объявить голодовку, меня за-брали из больницы и препроводили в комнату для свиданий.
Все было в точности, как и пять лет назад, даже личный осмотр про-водил тот же Алик Атаев с тем же повышенным интересом к заднему проходу, и вот, наконец, я оказываюсь в объятиях мамы и брата. На этот раз нам разрешили быть вместе сорок восемь часов, это меньше по-ложенного, но по сравнению с тем памятным свиданием, прогресс!
-- На следующей встрече, через пять лет, глядишь, и трое суток пол-учим! -- весело утешаю я родных.
Мы счастливы видеть друг друга, но мне кажется, что мама и Леня смотрят на меня с некоторым недоверием, они боялись, что меня вообще нет в живых, а я выгляжу гораздо лучше, чем на свидании в Чистополе!
-- За два месяца в больнице поправился на десять килограммов, -хвастаюсь я. -- И сердце окрепло -- смотрите, -- и я делаю несколько приседаний подряд.
Когда мы сели за накрытый мамой стол, Леня стал рассказывать о том, что изменилось за последнее время на воле.
Оказывается, как раз в эти самые дни в Женеве проходит другое двухдневное свидание -- Государственного секретаря США Шульца и министра иностранных дел СССР Громыко. Авиталь тоже находится там и выступила на пресс-конференции перед журналистами со всего мира. На следующий же день представитель советского МИДа объявил, что мне в ближайшие дни будет предоставлено свидание с родственни-ками. После двухмесячной неизвестности все мои друзья облегченно вздохнули, а Госдепартамент поспешил заявить, что рассматривает "жест доброй воли" русских как положительный факт.
Ну а если бы я не исчез на такой долгий срок? Если бы свидание было предоставлено мне своевременно, сразу после прибытия в зону, как пре-дусмотрено советским законом? Моим родным, конечно, не пришлось бы паниковать, зато Советы не смогли бы объявить в Женеве о своем "жесте доброй воли" и не получили бы политических дивидендов за "ус-тупчивость", да и у американцев не было бы повода для радости.
Это наше личное свидание отличалось от предыдущего, как нетороп-ливая, умудренная опытом зрелость от бурной поры юности: мы не спе-шили, как тогда, отказываясь от сна, обрушить друг на друга горы нако-пившейся информации в безнадежной попытке отыграть потерянное время; в спокойной беседе мы наслаждались каждой минутой общения, говорили не только о прошедших пяти годах, но и вспоминали наше с Леней детство, папу, друзей, обменивались понятными лишь нам троим шутками. Брат даже рассказал мне последние анекдоты, ходившие по Москве, и спел несколько песен Высоцкого, появившихся уже тогда, когда я находился в заключении.
Конечно, больше всего разговоров было об Авитали, о ее поездках, о встречах с Рейганом, Шульцем, Тэтчер, Миттераном. "Бедная моя де-вочка! -думал я. -- Мы с тобой, конечно, все время вместе, но на-сколько же тебе труднее, чем мне!" Никаких иллюзий я не строил, но, тем не менее, хорошо знал, что Авиталь не отступит, не впадет в отчая-ние и будет воевать за мое освобождение до конца. Однако я и предста-вить себе не мог истинных масштабов той кампании, которую, не давая себе передышки буквально ни на день, вела Авиталь вместе с тысячами наших друзей во всем мире; я осознал это лишь на свободе, да и то не сразу.
Несмотря на неспешный характер наших бесед, я успел за эти два дня рассказать маме и Лене немало такого о чистопольской тюрьме, что невозможно сообщить ни в письмах, ни даже во время короткой, через стекло, встречи, где тюремщики прислушиваются к каждому твоему слову: и о том, как вертухаи избили Корягина при водворении его в кар-цер, и о том, как сломали руку голодавшему Сергею Григорянцу, и о многом другом. При этом я знал, что в комнате есть микрофоны, и кагебешникам, чей кабинет находится прямо над нами, не составляет ника-кого труда записать наш разговор.
К концу свидания появился сам Осин. Выглядел он несколько сму-щенным и, осторожно подбирая слова, обратился к нам:
-- Когда вернетесь в Москву, так вы там... э-э-э... не особенно рас-пространяйтесь о том, что вам здесь... что вы здесь услышали. А то ведь, знаете... ну, это не пойдет на пользу вашему сыну...
Не знаю, что больше поразило меня, наглая демонстративность шан-тажа или наивность Осина, рассчитывавшего таким образом добиться чего-то от нашей семьи.
Мама отреагировала моментально:
-- Можете быть спокойны: клеветнической информации от меня не поступит. Я всем буду говорить только правду.
Хотя Осин вряд ли удовлетворился маминым ответом, он сделал "жест доброй воли": разрешил мне взять с собой в зону пять килограм-мов продуктов, привезенных родными. А ведь в прошлый раз мне не по-зволили вынести со свидания даже надкушенное яблоко! Мама в этой неожиданной "доброте" КГБ нашла еще один повод для надежды, я же слишком хорошо помнил, как неустойчивы были периоды оттепели в прошлом и как резко менялась обстановка после свидания, а потому не спешил с выводами. Но когда после прощальных объятий я вновь вышел в зону, которую покинул четыре года назад, выяснилось, что чудеса еще не кончились.