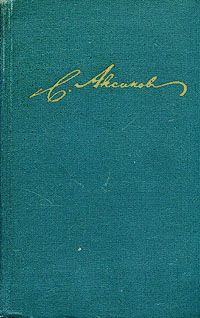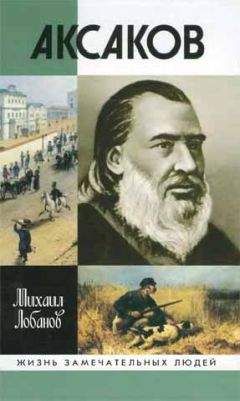Завтра играют «Коварство и любовь». Нетерпеливо хочу увидеть г-на и г-жу Каратыгиных…
2-е письмо из Петербурга к издателю «Московского вестника»*
Вчера я видел спектакль в Петербурге!.. Играли «Коварство и любовь»: пиеса обставлена лучшими артистами и очень хорошо слажена. Не выдавая своего мнения безошибочным, сделаю общее замечание, что эту трагедию должно играть гораздо простее, натуральнее; лица, выведенные в ней, взяты из обыкновенного общества, она написана прозою – к чему такая декламация, напев? Г-н Каратыгин, артист с отличным дарованием и даже искусством, в роли Фердинанда исполнен силы, чувства и благородства. К сожалению, орган его как будто испорчен – груб, охрипл; многих изменений голоса он не может взять. Мимика лица в выражении некоторых страстей – неприятна. Вместо нежности, любви – выражает плаксивость. Впрочем, несмотря на сии недостатки, сей просвещенный артист, свергнув оковы декламации и старой методической игры, со временем достигнет, без сомнения, степени знаменитого трагического актера. Г-жа Каратыгина, играя Луизу, была не в своей роли: видна искусная актриса, ловкая, благородная на сцене, но совсем не Луиза; даже наружность ее, прекрасной полной женщины, не шла к этому лицу. Притом много манерности и мало истинной чувствительности. Г-жа Валберхова роль леди Мильфорт выполнила очень хорошо: с благородством и глубоким чувством; жаль, что она также много декламировала; но, несмотря на это и на приметную слабость голоса и груди, она прекрасно выразила характер представляемого лица. Г-н Брянский превосходно играл старого музыканта, отца Луизы; но, признаюсь: для меня удивительно, почему он не играл президента? Для общего достоинства пиесы это было необходимо. Роль Миллера, правда, – роль очень благодарная, следственно и нетрудная, но такому артисту, как г. Брянский, надобно искать трудностей.
Президента играл г. Толченов, секретаря Вурмса – г. Хотяинцев; первый был отлично дурен, второй – просто дурен, именно оттого, что старался выдавать, выжимать каждое слово и всю ролю играл карикатурно. Он своей диктовкой заставлял смеяться даже тогда, когда Луиза писала письмо, смертный приговор себе и Фердинанду. Но в искусстве смешить некстати превзошел его г. Сосницкий. Он в роли маршала был настоящий буф и много вредил г. Каратыгину при вызове на дуэль. Например: в самое это время, стоя за креслами, он, будто от страху, поджимал то ту, то другую ногу; а когда побежал, то ноги его чуть не до спины загибались. Странно, как артист, пользующийся такою славою и так любимый публикою, позволяет себе неприличные и отвратительные фарсы.
Я видел еще несколько раз г. Каратыгина в других ролях и, наконец, в «Гамлете». Это торжество его; прочие действующие лица, в том числе и г-жа Каратыгина, игравшая Гертруду, заслуживают одно порицание; но г. Каратыгин превосходен: в этой роле и голос его приличен страстям и напев стихов извинителен, даже незаметен; ужас, отчаяние выражал он несравненно. Лучшее место было видение тени отца. Удивительно, как скоро зритель привыкает к методе или особенному способу выражения актера, даже неприятному для слуха, если актер одушевляет игру свою талантом и верностию чувств. Кто никогда не слыхивал г. Каратыгина, тому чтение его до того покажется странным, что можно из театра уйти; но кто выдержит первые минуты, тот не уйдет уже и целые часы. Живо чувствую теперь, как должен был не понравиться петербургской публике наш москвич Мочалов, который в трагедиях, в стихах, не только не поет, не декламирует, но даже не читает, а говорит. Зрителям, привыкнувшим к величественной, стройной (хотя слишком тонкой) фигуре г. Каратыгина, к важным, благородным его движениям, к его громозвучному органу, к его пышной декламации, к его напеву – под сею формою только признававшим царя на сцене, – чем должен был показаться Мочалов: человек среднего роста, без искусства держать себя хорошо на сцене, с дурными привычками, с небольшим голосом и говорящий, как и все люди?.. Но как неизмеримо расстояние между трудностями сих метод! Как легко с хорошими средствами декламировать, и как трудны, опасны и высоки красоты игры простой, истинной; надобно прибавить, что во многих трагедиях она невозможна; но всему есть мера.
Познакомившись довольно коротко с игрою г. Каратыгина и желая передать вам яснее свои мысли, я сделаю сравнение первых артистов обеих столиц.
Г-н Каратыгин сотворен для первых ролей героев, царей; г. Мочалов – для первых ролей любовников и молодых царей. Переходя из одного амплуа в другое, оба равно неудовлетворительны; но с г. Каратыгиным случается это очень редко, с г. Мочаловым очень часто: впрочем, это не его вина. Каждый для своих ролей имеет прекрасные средства; но орган г. Каратыгина неломок, неприятен; голос г. Мочалова несильный, но прелестный, обольстительный во всех изменениях: черты лица его прекрасны и благородны; чувствительность, любовь, восторг выражает он лучше Каратыгина; но зато чувства ужаса, отчаяния несравненно сильнее изображаются на лице последнего. Декламация г. Каратыгина, всегда равно сильная и верная, заставляет забывать его методический напев; чтение (или лучше разговор) г. Мочалова – совершенство… Г-н Каратыгин благороден на сцене; выдерживает ровно весь характер; его движения красивы, приличны лицу, им представляемому; положения картинны, даже до излишества. Мочалов держит себя дурно; несчастные привычки не оставляют его ни в царях, ни в знатных баричах, ни во фраке, ни в мундире: везде одна неловкая походка, одни неприятные телодвижения; цельность характеров не всегда выдерживает; всегда играет роли неровно, но зато имеет такие минуты, такие превосходные места, которые доходят прямо до сердца, в восторг приводя зрителя, чего г. Каратыгин в своей игре не имеет и едва ли достигнуть может. Г-н Каратыгин владеет собою при выражении сильнейших страстей: это важное условие в искусстве. Он может быть иногда сильнее, иногда слабее, но никогда не сыграет дурно. За г. Мочалова никто, ни он сам, не может поручиться в том, что он сыграет хорошо. Его искусство – вдохновение. Г-н Каратыгин очень часто играет, очень много трудится: это видно; он неограниченный властелин своих средств. Г-н Мочалов имеет самый тесный репертуар, целый век играет несколько трагедий и то редко; если дела останутся в таком положении надолго, то путь к дальнейшим успехам может и навсегда заградиться для него. Это золото, еще в горниле неочищенное; алмаз в коре, еще неограненный; но ничто лучше не доказывает самобытности его таланта, как смелое введение простого разговора на сцене и упорное его продолжение. Сей путь никто не указал ему; он избрал его по внутреннему убеждению. Какие трудности, неприятности, препятствия надобно было преодолеть сначала! Теперь уже и многие переменили свое мнение, а со временем и все в этом согласятся; но в труднейшем изящном искусстве предупредить свой век и смело побороть его предрассудки – есть подвиг великий. Итак, вот результат мой: талантом – г. Мочалов выше г. Каратыгина; как актер – последний несравненно выше г. Мочалова. – Чего не дано природою, того никакими трудами приобрести нельзя. Искусство – приобресть можно. Публика петербургская обязана благодарностию своему артисту и всегда с восторгом принимает его, но, конечно, публика московская желала бы превзойти петербургскую и в благодарности. До свидания и проч.
P. S. Удивляться надобно здешнему репертуару! – весь Н. И. Ильин на сцене. Бенефисные, спекуляционные пиесы все в ходу. Часто дают «Татьяну прекрасную на Воробьевых горах», которая отличается особенно следующими стихами:
За царя, за славу, честь
Нам слона приятно съесть!
Также «Вертера», которого истинно я не мог досмотреть: отвратительные фарсы г. Величкина и г-жи Ежовой выгнали меня из театра в половине пиесы. Кажется, убедительный пример для всех фарсеров есть г. Рязанцев: с каким единодушным удовольствием принимает его публика, и как проста, противоположна игра его всяким фарсам!
Письмо в Петербург <О французском спектакле в Москве>*
Наконец, исполнились нетерпеливые ожидания страстных галломанов, наступила эпоха в театральных летописях Москвы, и французский театр в Москве, 1 января 1829 года, открылся «Расточителем» («Dissipateur») Детуша.
Принадлежа к партии умеренных, или, лучше сказать, не принадлежа ни к какой, я сердечно желал, чтобы древняя столица наша украсилась новым общественным удовольствием – французским спектаклем. Признаюсь, однакоже, тебе, что, несмотря на пышные обещания галломанов, на громкие и непонятные фразы «Московского телеграфа», который возвещал, что французский театр будет освещен разноцветным газом, и с каким-то удовольствием и народною гордостию повторял выражения: Французы в Можайске! Французы в Москве! – несмотря на все это и на известную способность и охоту французов к театральному искусству, я не увлекался блистательными надеждами. Зная, что средства были недостаточны для привлечения к нам отличных артистов, я не ожидал много хорошего, но никогда не воображал, что увижу до такой степени посредственное – чтоб не сказать больше, – как первый французский спектакль. Гостеприимная и великодушная московская публика приняла снисходительно дебют приезжих гостей, но без одобрения: истина была так очевидна, что почти все мнения слились в одно общее. Боже мой, какой бы шум подняли в Париже, если б там осмелились выписать такую иностранную труппу!