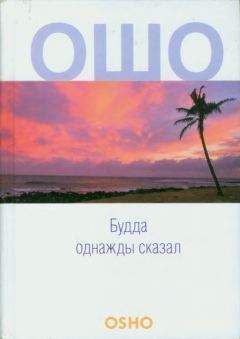Таков был Клопский. Прочие были в другом роде, но тоже хороши. Это были братья Д., севшие на землю под Полтавой, люди необыкновенно скучные, тупые и самомнительные, хотя с виду весьма смиренные, затем некто Леонтьев, щуплый и маленький молодой человек, болезненной и редкой красоты, бывший паж, тоже мучивший себя мужицким трудом и тоже лгавший себе и другим, что он очень счастлив этим, затем громадный еврей, похожий на матерого русского мужика, ставший впоследствии известным под именем журналиста Тенеромо, державшийся всегда с необыкновенной важностью и снисходительностью к простым смертным, нестерпимый ритор, софист, занимавшийся бондарным ремеслом. К нему-то под начало и попал я. Он-то и был мой главный наставник, как в «учении», так и в жизни трудами рук своих: я был у него подмастерьем, учился набивать обручи. Для чего мне нужны были эти обручи? Для того опять-таки, что они как-то соединяли меня с Толстым, давали мне тайную надежду когда-нибудь увидать его, войти в близость с ним. И, к великому моему счастью, надежда эта вскоре совершенно неожиданно оправдалась. Вскоре вся «братия» смотрела на меня уже как на своего, и Волкенштейн — это было в самом конце девяносто третьего года — вдруг пригласил меня ехать с ним сперва к «братьям» в Харьковскую губернию, к мужикам села Хилково, — принадлежавшего известному толстовцу князю Хилкову, — а затем в Москву, к самому Толстому.
Трудное это было путешествие. Ехали мы в третьем классе, с пересадками, все норовя попадать в вагоны наиболее простонародные, ели «безубойное», то есть черт знает что, хотя Волкенштейн иногда и не выдерживал, вдруг бежал к буфету и с страшной жадностью глотал одну за другой две-три рюмки водки, закусывая и обжигаясь пирожками с мясом, а потом пресерьезно говорил мне:
— Я опять дал волю своей похоти и очень страдаю от этого, но все же борюсь с собой и все же знаю, что не пирожки владеют мной, а я ими, я не раб их, хочу — ем, хочу — не ем…
Трудно было ехать потому больше всего, что я сгорал от нетерпения поскорей попасть в Москву, нам же, видите ли, непременно надо было ехать с плохими поездами, а не со скорыми, не с курьерскими, затем пожить с хилковскими «братьями», войти в личное общение с ними и «укрепить» и себя и их этим общением на путях «доброй» жизни. Мы так и сделали — пожили у хилковских мужиков, кажется, дня три или четыре, и я возненавидел за эти дни этих богатых, благочестивых, благих на вид мужиков, ночевки в их избах, их пироги с начинкой из картофеля, их псалмопение, их рассказы про их непрестанную и лютую борьбу «с попами и начальниками» и буквоедские споры о Писании истинно всеми силами души. Наконец, первого января, мы тронулись дальше. Помню, я проснулся в тот день с такой радостью, что совсем забылся и брякнул: «С Новым годом, Александр Александрович!» — за что и получил от Александра Александровича жесточайший нагоняй: что это значит — Новый год, понимаю ли я, какую бессмыслицу повторяю я? Однако не до того мне было тогда. Я слушал и думал: прекрасно, прекрасно, все это сущий вздор, — завтра вечером мы будем в Москве, а послезавтра я увижу Толстого… И так оно и случилось.
Волкенштейн кровно обидел меня: поехал к Толстому сию же минуту после того, как мы добрались до московской гостиницы, а меня с собой не взял: «Нельзя, нельзя, надо предупредить Льва Николаевича, я предупрежу, предупрежу», — и убежал. Вернулся же домой очень поздно и даже ничего не рассказал о своем визите, только поспешно кинул мне: «Я точно живой воды напился!» — причем я совершенно безошибочно определил по запаху от него, что он, после живой воды, пил еще и шамбертен, затем, очевидно, чтобы доказать, что не он раб шамбертена, а шамбертен его раб. Хорошо было только то, что Толстого он все-таки предупредил, хотя я даже и на это мало надеялся: очень милый, но уж очень легкомысленный человек был этот слегка женоподобный, полнеющий, красивый брюнет. На другой день вечером я, вне себя, побежал наконец в Хамовники…
Как рассказать все последующее?
Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулок. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее, за домом, — сад, и над ним тихо играющие разноцветными лучами сказочно-прелестные зимние звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значения эти освещенные окна: ведь за ними — Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце — и от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и бежать назад? Отчаянно кидаюсь наконец во двор, на крыльцо дома и звоню. Тотчас же отворяют — и я вижу лакея в плохоньком фраке и светлую прихожую, теплую, уютную, с шубками и шубами на вешалке, среди которых резко выделяется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лестница, крытая красным сукном. Правее, под нею, запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном доме.
— Как прикажете доложить?
— Бунин.
— Как-с?
— Бунин.
— Слушаю-с.
И лакей убегает наверх и, к моему удивлению, тотчас же, вприпрыжку, бочком, перехватывая рукой по перилам, сбегает назад:
— Пожалуйте обождать наверх, в залу…
А в зале я удивляюсь еще больше: едва вхожу, как в глубине ее, налево, тотчас же, не заставляя меня ждать, открывается маленькая дверка, и из-за нее быстро, с неуклюжей ловкостью выдергивает ноги, выныривает, — ибо за этой дверкой было две-три ступеньки в коридор, — кто-то большой, седобородый, слегка как будто кривоногий, в широкой, мешковато сшитой блузе из серой бумазеи, в таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня, — меж тем как я все-таки успеваю заметить, что в его походке, вообще во всей посадке, есть какое-то сходство с моим отцом, — быстро (и немного приседая) подходит ко мне, протягивает, вернее, ладонью вверх бросает большую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной, даже как бы слегка жалостной, и я вижу, что эти маленькие серо-голубые глаза вовсе не страшные и не острые, а только по-звериному зоркие. Легкие и жидкие остатки серых (на концах слегка завивающихся) волос по-крестьянски разделены на прямой пробор, очень большие уши сидят необычно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, легкая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть…
— Бунин? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму? Вы что же, надолго в Москву? Зачем? Ко мне? Молодой писатель? Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни… Садитесь, пожалуйста, и расскажите о себе…
Он заговорил так же поспешно, как вошел, мгновенно сделав вид, будто не заметил моей потерянности, и торопясь вывести меня из нее, отвлечь от нее меня.
Что он еще говорил?
Все расспрашивал:
— Холосты? Женаты? С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда… Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насилуйте себя, не делайте мундира из нее, во всякой жизни можно быть хорошим человеком…
Мы сидели возле маленького столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в легкой тени, я видел только мягкую серую материю его блузы, да его крупную руку, к которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновней нежностью, да слышал его старческий, слегка альтовый голос, с характерным звуком несколько выдающейся челюсти… Вдруг зашуршал шелк, я взглянул, вздрогнул, поднялся: из гостиной плавно шла крупная и нарядная, сияющая черным шелковым платьем, черными волосами и живыми, сплошь темными глазами дама:
— Леон, — сказала она, — ты забыл, что тебя ждут…
И он тоже поднялся и с извиняющейся, даже как бы виноватой улыбкой, глядя мне прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых все была какая-то темная грусть, опять забрал мою руку в свою:
— Ну, до свидания, до свидания, дай вам бог, приходите ко мне, когда опять будете в Москве… Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь у вас, не будет… Счастья в жизни нет, есть только зарницы его — цените их, живите ими…
И я ушел, убежал и провел вполне сумасшедшую ночь, непрерывно видел его во сне с разительной яркостью, в какой-то дикой путанице…
Возвратясь в Полтаву, я писал ему и получил от него несколько ласковых ответных писем. В одном из них он опять дал мне понять, что не стоит мне так уж стараться быть толстовцем, но я все-таки не унимался: обручи набивать бросил, но стал торговать книжками «Посредника», — московского толстовского издательства, — завел полтавское отделение его. Да, как это ни странно, я когда-то торговал: когда-то в Полтаве была лавочка, внутри которой очень хорошо пахло новыми тесовыми полками и лежащими на них новыми книжками и брошюрками, а над входом висела вывеска: «Книжный магазин Бунина». Я служил тогда в полтавской земской управе, был ее библиотекарем, сидел в сводчатом полуподвальном зале, в глубокие окна которого глядел старый сад управы. Там я, один, в тиши, читал, писал стихи, порой работал над составлением очерков (о борьбе с вредными насекомыми, об урожае хлебов и трав), которые мне заказывало статистическое бюро, бывшее при управе, и составил, кстати сказать, столько, что, если бы собрать их теперь, к сочинениям моим прибавилось бы еще три-четыре порядочных тома. Так я проводил время до обеда. А после обеда шел в свой книжный магазин и ждал там покупателей, жаждущих толстовского просвещения. Покупателей, однако, не было, и вот я, чтобы хоть как-нибудь способствовать распространению этого просвещения, стал бесплатно раздавать некоторые брошюрки «Посредника» управским сторожам. Когда же и из этого не вышло ничего путного, — например, один сторож, которому я дал брошюрку о вреде курения, сказал мне вскоре после того, что вся брошюрка эта пошла у него на тютюн, на цигарки, — я решился на более смелое дело: стал иногда, пользуясь свободой своей службы, отправляться в странствия по губернии, торговать «Посредником» по ярмаркам, по базарам, где и был однажды задержан урядником «на предмет составления протокола за торговлю без законного на то разрешения», каковой протокол, конечно, повлек за собой через некоторое время судебное преследование. Преследование оказалось довольно сурово: меня приговорили к трем месяцам тюремного заключения, и я был, понятно, очень рад, что наконец-то и мне удастся «пострадать». Однако и тут преследовала меня неудача: сидеть в тюрьме мне не пришлось, — я попал под всемилостивейший манифест по случаю восшествия на престол нового императора и таким манером от страданий был насильственно избавлен.