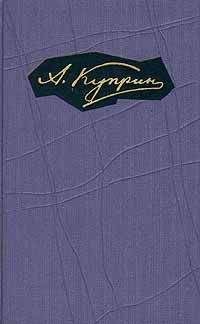— Что, коллега, смотрите, как вашего Молоха упитывают? — услышал Бобров за своей спиной веселый, добродушный голос.
Андрей Ильич задрожал и чуть-чуть не полетел в кочегарную яму. Его поразило, почти потрясло это неожиданное соответствие шутливого восклицания доктора с его собственными мыслями. Даже и овладев собою, он долго не мог отделаться от странности такого совпадения. Его всегда интересовали и казались ему загадочными те случаи, когда, задумавшись о каком-нибудь предмете или читая о чем-нибудь в книге, он тотчас же слышал рядом с собою разговор о том же самом.
— Я вас, кажется, напугал, дорогой мой? — спросил доктор, внимательно заглянув в лицо Боброва. — Прошу прощения.
— Да, немножко… вы так неслышно подошли… я совсем не ожидал.
— Ох, батенька Андрей Ильич, давайте-ка полечим наши нервы. Никуда они у нас не годятся… Послушайтесь моего совета: берите отпуск да махните куда-нибудь за границу… Ну, что вам себя здесь растравлять? Поживите полгодика в свое удовольствие: пейте хорошее вино, ездите верхом побольше, насчет ламура [6] пройдитесь…
Доктор подошел к краю кочегарки.
— Вот так преисподняя! — воскликнул он, заглянув вниз. — Сколько каждый такой самоварчик должен весить? Пудов восемьсот, я думаю?..
— Нет, побольше. Тысячи полторы.
— Ой, ой, ой… А ну как такая штучка вздумает того… лопнуть? Эффектное выйдет зрелище? А?
— Очень эффектное, доктор. Наверно, от всех этих зданий не останется камня на камне…
Гольдберг покачал головой и многозначительно свистнул.
— Отчего же это может случиться?
— Причины разные бывают… но чаще всего это случается таким образом: когда в котле остается очень мало воды, то его стенки раскаляются все больше и больше, чуть не докрасна. Если в это время пустить в котел воду, то сразу получается громадное количество паров, стенки не выдерживают давления, и котел разрывается.
— Так что это можно сделать нарочно?
— Сколько угодно. Не хотите ли попробовать? Когда вода совсем упадет в водомере, нужно только повернуть вентиль… видите, маленький круглый рычажок… И все тут.
Бобров шутил, но голос его был странно серьезен, а глаза смотрели сурово и печально. «Черт его знает, — подумал доктор, — милый он человек, а все-таки… психопат…»
— Вы что же на обед-то не пошли, Андрей Ильич? — спросил Гольдберг, отходя от кочегарки. — Хоть поглядели бы, какой зимний сад из лаборатории устроили. А сервировка, — так прямо на удивление.
— А ну их! Терпеть не могу инженерных обедов, — поморщился Бобров. Хвастаются, орут, безобразно льстят друг другу, и потом эти неизменные пьяные тосты, во время которых ораторы обливают вином себя и соседей… Отвращение!..
— Да, да, совершенно верно, — рассмеялся доктор. — Я захватил начало. Квашнин — одно великолепие: «Милостивые государи, призвание инженера — высокое и ответственное призвание. Вместе с рельсовым путем, с доменной печью и с шахтой он несет в глубь страны семена просвещения, цветы цивилизации и…» какие-то еще плоды, я уж не помню хорошенько… Но ведь каков обер-жулик!.. «Сплотимтесь же, господа, и будем высоко держать святое знамя нашего благодетельного искусства!..» Ну, конечно, бешеные рукоплескания.
Они прошли несколько шагов молча. Лицо доктора вдруг омрачилось, и он заговорил со злобой в голосе:
— Да! Благодетельное искусство! А вот рабочие бараки из щепок выстроены. Больных не оберешься… дети, как мухи, мрут. Вот тебе и семена просвещения! То-то они запоют, когда брюшной тиф разгуляется в Иванкове.
— Да что вы, доктор? Разве уже есть больные? Это совсем ужасно было бы при такой тесноте.
Доктор остановился, тяжело переводя дух.
— Да как же не быть? — сказал он с горечью. — Вчера двух человек привезли. Один сегодня утром скончался, а другой если еще не умер, то вечером умрет непременно… А у нас ни медикаментов, ни помещения, ни фельдшеров опытных… Подождите, доиграются они!.. — прибавил Гольдберг сердито и погрозил кому-то в пространство кулаком.
VIII
Злые языки начали звонить. Про Квашнина еще до его приезда ходило на заводе так много пикантных анекдотов, что теперь никто не сомневался в настоящей причине его внезапного сближения с семейством Зиненок. Дамы говорили об этом с двусмысленными улыбками, мужчины в своем кругу называли вещи с циничной откровенностью их именами. Однако наверняка никто ничего не знал. Все с удовольствием ждали соблазнительного скандала.
В сплетне была доля правды. Сделав визит семейству Зиненок, Квашнин стал ежедневно проводить у них вечера. По утрам, около одиннадцати часов, в Шепетовскую экономию приезжала его прекрасная тройка серых, и кучер неизменно докладывал, что «барин просит барыню и барышень пожаловать к ним на завтрак». К этим завтракам посторонние не приглашались. Кушанье готовил повар-француз, которого Василий Терентьевич всюду возил за собою в своих частых разъездах, даже и за границу.
Внимание Квашнина к его новым знакомым выражалось очень своеобразно. Относительно всех пятерых девиц он сразу стал на бесцеремонную ногу холостого и веселого дядюшки. Через три дня он уже называл их уменьшительными именами с прибавлением отчества — Шура Григорьевна, Ниночка Григорьевна, а самую младшую, Касю, часто брал за пухлый, с ямочкой, подбородок и дразнил «младенцем» и «цыпленочком», отчего она краснела до слез, но не сопротивлялась.
Анна Афанасьевна с игривой ворчливостью пеняла ему, что он совсем избалует ее девочек! Действительно, стоило только одной из них выразить какое-нибудь мимолетное желание, как оно тотчас же исполнялось. Едва Мака заикнулась, без всякого, впрочем, заднего умысла, что ей хотелось бы выучиться ездить на велосипеде, как на другой же день нарочный привез из Харькова прекрасную машину, стоившую по меньшей мере рублей триста… Бете он проиграл, держа с нею пари по поводу каких-то пустяков, пуд конфет, а Касе — брошку, в которой последовательно чередовались камни — коралл, аметист, сапфир и яшма, обозначавшие составные буквы ее имени. Он услышал однажды, что Нина любит верховую езду и лошадей. Через два дня ей привели кровную английскую кобылу, в совершенстве выезженную под дамское седло. Барышни были очарованы. В их доме поселился добрый сказочный дух, угадывавший и тотчас же исполнявший их малейшие капризы. Анна Афанасьевна смутно чувствовала в этой щедрости что-то неприличное для хорошей семьи, но у нее не хватало ни смелости, ни такта, чтобы дать незаметно понять это Квашнину. На ее льстивые выговоры он только махал рукой и отвечал своим грубоватым, решительным басом:
— Ну вот еще, дорогая моя… пустяки какие выдумали…
Однако ни одну из ее дочерей он не предпочитал явно, всем им одинаково угождая и над всеми бесцеремонно подтрунивая. Молодые люди, посещавшие раньше дом Зиненок, предупредительно и бесследно исчезли. Зато постоянным гостем сделался Свежевский, бывший у них до того всего-навсего раза два или три. Его никто не звал; он явился сам, точно по чьему-то таинственному приглашению, и сразу сумел сделаться необходимым для всех членов семьи.
Впрочем, появлению его у Зиненок предшествовал маленький анекдот. Как-то, месяцев пять тому назад, Свежевский проговорился в кругу своих сослуживцев, что мечта его жизни — сделаться со временем миллионером и что он к сорока годам непременно будет им.
— Как же вы этого добьетесь, Станислав Ксаверьевич? — спросили его.
Свежевский захихикал и, загадочно потирая свои мокрые руки, ответил:
— Все дороги ведут в Рим.
Чутье ему подсказывало, что теперь в Шепетовской экономии обстоятельства складываются весьма удобно для его будущей карьеры. Так или иначе, он мог пригодиться всемогущему патрону. И Свежевский, ставя все на карту, смело лез Квашнину на глаза со своим угодливым хихиканьем. Он заигрывал с ним, как веселый дворовый щенок со свирепым меделянским псом, выражая и лицом и голосом ежеминутную готовность учинить какую угодно пакость по одному только мановению Василия Терентьевича.
Патрон не препятствовал. Тот самый Квашнин, который прогонял со службы без объяснения причин директоров и управляющих заводами, — этот самый Квашнин молча терпел в своем присутствии какого-то Свежевского… Тут пахло важной услугой, и будущий миллионер напряженно ждал своего момента.
Все это, передаваясь из уст в уста, стало известно и Боброву. Он не удивился: на семейство Зиненок у него сложился свой твердый и точный взгляд. Его взволновало лишь то, что сплетня не преминет задеть грязным хвостом и Нину… После разговора на вокзале эта девушка стала ему еще милее и дороже. Ему одному она доверчиво открыла свою душу, прекрасную даже в колебаниях и в слабостях. Все другие знали — думалось ему — только ее костюм и наружность. Ревность же с ее циничными сомнениями, вечно раздраженным самолюбием, с ее мелочностью и грубостью была чужда доверчивой и нежной натуре Боброва.