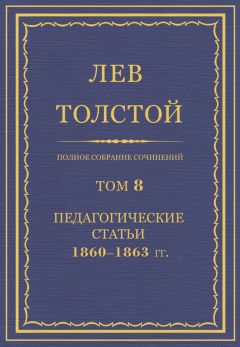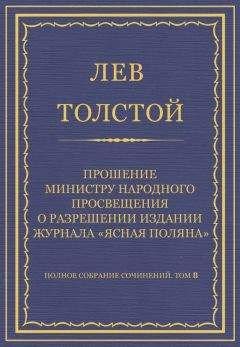Раз я пришел в класс, все школьники с каким-то ужасом объявили мне, что мальчик этот опять украл. Из комнаты учителя он утащил 20 к. медных денег, и его застали, когда он их прятал под лестницу. Мы опять навесили ему ярлык, опять началась та же уродливая сцена. Я стал увещевать его, как увещевают все воспитатели; бывший при этом уже взрослый мальчик, говорун, стал увещевать его тоже, повторяя слова, вероятно слышанные им от отца – дворника. «Раз украл, другой украл», говорил он складно и степенно, «привычку возьмет, до добра не доведет». Мне начинало становиться досадно. Я чувствовал почти злобу на вора. Я взглянул в лицо наказанного, еще более бледное, страдающее и жестокое, вспомнил почему-то колодников, и мне так вдруг стало совестно и гадко, что я сдернул с него глупый ярлык, велел ему идти, куда он хочет, и убедился вдруг, не умом, а всем существом убедился, что я не имею права мучить этого несчастного ребенка, и что я не могу сделать из него то, что̀ бы мне и дворникову сыну хотелось из него сделать. Я убедился, что есть тайны души, закрытые от нас, на которые может действовать жизнь, а не нравоучения и наказания. И что̀ за дичь? Мальчик украл книгу, – целым длинным, многосложным путем чувств, мыслей, ошибочных умозаключений приведен был к тому, что взял чужую книжку и зачем-то запер ее в свой сундук, – а я налепляю ему бумажку со словом «вор», которое значит совсем другое! Зачем? Наказать его стыдом, – скажут мне. Наказать его стыдом? Зачем? Что такое стыд? И разве известно, что стыд уничтожает наклонность к воровству? Может быть, он поощряет ее. То, что̀ выражалось на его лице, может быть, было не стыд? Даже наверно я знаю, что это был не стыд, а что-то совсем другое, что̀, может быть, спало бы всегда в его душе и что̀ не нужно было вызывать. Пускай там, в мире, который называют действительным, в мире Пальмерстонов, Каэн, в мире – где разумно не то, что разумно, а то, что действительно, пускай там люди, сами наказанные, выдумают себе права и обязанности наказывать. Наш мир детей – людей простых, независимых – должен оставаться чист от самообманыванья и преступной веры в законность наказания, веры и самообманывания в то, что чувство мести становится справедливым, как скоро его назовем наказанием.....
Продолжаем описание дневного порядка учения. Часа в 2 проголодавшиеся ребята бегут домой. Несмотря на голод, они однако еще остаются несколько минут, чтобы узнать, кому какие отметки. Отметки, в настоящее время не дающие никому преимущества, страшно занимают их. «Мне 5 с крестом, а Ольгушке нолю какую здоровую закатили! – А мне четыре!» кричат они. Отметки служат для них самих оценкою их труда, и недовольство отметками бывает только тогда, когда оценка сделана не верно. Беда, ежели он старался, и учитель, просмотрев, поставит ему меньше того, чего он стоит. Он не даст покою учителю и плачет горькими слезами, ежели не добьется изменения. Дурные отметки, но заслуженные, остаются без протеста. Отметки, впрочем, остаются только от старого нашего порядка и сами собой начинают падать.
В первый после обеда урок, после роспуска, собираются точно так же, как утром, и так же дожидаются учителя. Большей частью это бывает урок священной или русской истории, на который собираются все классы. Урок этот начинается обыкновенно еще сумерками. Учитель становится или садится посредине комнаты; а толпа размещается вокруг него амфитеатром: кто на лавках, кто на столах, кто на подоконниках.
Все вечерние уроки, а особенно этот первый, имеют совершенно особенный от утренних характер спокойствия, мечтательности и поэтичности. Придите в школу сумерками – огня в окнах не видно, почти тихо, только вновь натасканный снег на ступени лестницы, слабый гул и шевеленье за дверью, да какой-нибудь мальчуган, ухватившись за перилы, через две ступени шагающий наверх по лестнице, доказывают, что ученики в школе. Войдите в комнату. Ужь почти темно за замерзшими окнами; старшие, лучшие ученики прижаты другими к самому учителю и, задрав головки, смотрят ему прямо в рот. Дворовая самостоятельная девочка с озабоченным лицом сидит всегда на высоком столе, – так и кажется, каждое слово глотает; поплоше, ребята-мелкота, сидят подальше: они слушают внимательно, даже сердито, они держат себя так же, как и большие, но, несмотря на всё внимание, мы знаем, что они ничего не расскажут, хотя и многое запомнят. Кто навалился на плечи другому, кто вовсе стоит на столе. Редко кто, втиснувшись в самую середину толпы, за чьей-нибудь спиной занимается выписыванием ногтем каких-нибудь фигур на этой спине. Редко кто оглянется на вас. Когда идет новый рассказ – все замерли, слушают. Когда повторение – тут и там раздаются самолюбивые голоса, не могущие выдержать, чтобы не подсказать учителю. Впрочем, и старую историю, которую любят, они просят учителя повторить всю своими словами и не позволяют перебивать учителя. «Ну ты, не терпится? молчи»! крикнут на выскочку. Им больно, что перебивают характер и художественность рассказа учителя. Последнее время это была история жизни Христа. Они всякий раз требовали рассказать ее всю. Ежели не всю им рассказывали, то они сами дополняли любимый конец – историю отречения Петра и страдания Спасителя. Кажется, всё мертво, не шелохнется, – не заснули ли? Подойдешь в полутьме, взглянешь в лицо какому-нибудь маленькому: он сидит, впившись глазами в учителя, сморщивши лоб от внимания, и десятый раз отталкивает с плеча наваливающуюся на него руку товарища. Вы пощекотите его за шею – он даже не улыбнется, согнет головку, как будто отгоняясь от мухи, и опять весь отдается таинственному и поэтическому рассказу: как сама разорвалась церковная завеса, и темно сделалось на земле, – ему и жутко, и хорошо. Но вот учитель кончил рассказывать, и все поднимаются c места, и толпясь к учителю, перекрикивая один другого, стараются пересказать всё, что удержано ими. Крик поднимается страшный – учитель насилу может следить за всеми. Те, которым запретили говорить, в уверенности, что они знают, не успокаиваются этим: они приступают к другому учителю, ежели его нет – к товарищу, к постороннему, к истопнику даже, ходят из угла в угол по-двое, по-трое, прося каждого их послушать. Редко кто рассказывает один. Они сами отбираются группами, равными по силам, и рассказывают, поощряя, поджидая и поправляя один другого. «Ну, давай с тобой», говорит один другому, но тот, к кому обращаются, знает, что он ему не по силам, и отсылает его к другому. Как только повысказались, успокоились, приносят свечи, и уже другое настроение находит на мальчиков.
По вечерам вообще и в следующих классах меньше возни, криков, больше покорности, доверия учителю. Особенное отвращение заметно от математики и анализа, и охота к пению, к чтению и особенно к рассказам. «Что всё математику да писать – рассказывать лучше, об земле, или хоть историю, а мы послушаем», говорят они. Часов в 8 уже глаза соловеют, начинают позевывать, свечки темнее горят – реже снимают, – старшие удерживаются, младшие, худшие, засыпают, облокотившись на стол, под приятные звуки говора учителя. Иногда, когда классы бывают интересны и их было много (иногда бывает до семи больших часов в день), и ребята устали, или перед праздником, когда дома печки приготовлены париться, вдруг, не говоря ни слова, на втором или третьем послеобеденном классе, два или три мальчика забегают в комнату и спеша разбирают шапки. «Что вы»? – Домой. – «А учиться? ведь пение»! – А ребята говорят: домой! – отвечает он, ускользая с своею шапкой. – «Да кто говорит»? – Ребята пошли! – «Как же, как?» – спрашивает озадаченный учитель, приготовивший свой урок, – «останься!» – Но в комнату вбегает другой мальчик с разгоряченным, озабоченным лицом. – «Что стоишь?» – сердито нападает он на удержанного, который в нерешительности заправляет хлопки в шапку: – «ребята ужь во-он где, у кузни уж небось». – «Пошли»? – Пошли. – И оба бегут вон, из-за двери крича: – «Прощайте, Иван Иваныч!» – И кто такие эти ребята, которые решили идти домой, как они решили? – Бог их знает. Кто именно решил, вы никак не найдете. Они не совещались, не делали заговора, а так вздумали ребята домой. «Ребята идут!» – и застучали ножонки по ступенькам, кто ко̀том свалился со ступеней, – и, подпрыгивая и бултыхаясь в снег, обегая по узкой дорожке друг друга, с криком побежали домой ребята. Такие случаи повторяются раз и два в неделю. Оно обидно и неприятно для учителя – кто не согласится с этим, но кто не согласится тоже, что вследствие одного такого случая насколько бо̀льшее значение получают те пять, шесть, а иногда семь уроков в день для каждого класса, которые свободно и охотно выдерживаются каждый день учениками. Только при повторении таких случаев можно быть уверену, что преподавание, хотя и недостаточное и одностороннее, не совсем дурно и не вредно. Ежели бы вопрос был поставлен так: что́ лучше – чтобы в продолжение года не было ни одного такого случая, или чтобы случаи эти повторялись больше чем на половину уроков, – мы бы выбрали последнее, Я, по крайней мере, в Ясно-полянской школе был рад этим, несколько раз в месяц повторявшимся, случаям. Несмотря на частые повторения ребятам, что они могут уходить всегда, когда им хочется, – влияние учителя так сильно, что я боялся последнее время, как бы дисциплина классов, росписаний и отметок, незаметно для них, не стеснила их свободы так, чтобы они совсем не покорились хитрости нашей расставленной сети порядка, чтобы не утратили возможности выбора и протеста. Ежели они продолжают ходить охотно, несмотря на предоставленную им свободу, я никак не думаю, чтобы это доказывало особенные качества Ясно-полянской школы, – я думаю, что в большей части школ то же самое бы повторилось, и что желание учиться в детях так сильно, что для удовлетворения этого желания они подчинятся многим трудным условиям и простят много недостатков. Возможность таких убеганий полезна и необходима, только как средство застрахования учителя от самых сильных и грубых ошибок и злоупотреблений.