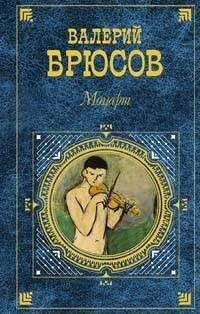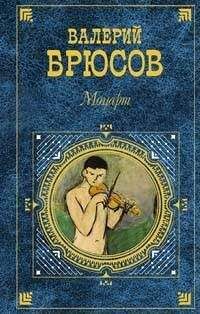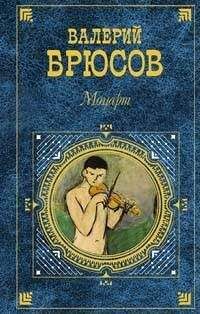А потом! Ведь он мне сознался, – да и не трудно было догадаться, – что я была первая женщина, которой он отдался. Я взяла, я выпила его невинность. Я для него – символ женщины вообще; я для него – воплощение страсти. Любовь он может представлять лишь в моем образе. Одно мое приближение, веянье моих духов его опьяняет. Если я ему скажу: «пойди – убей» или «иди – умри», он исполнит, даже не думая.
Как же мне отдать кому-нибудь Володю? Он – мой, он – моя собственность, я его сделала и имею все права на него...
В нем я люблю опасность. Наша любовь – тот «поединок роковой», о котором говорит Тютчев. Еще не победил ни один из нас. Но я знаю, что может победить он. Тогда я буду его рабой. Это – страшно, и это – соблазняет, притягивает к себе, как пропасть. И стыдно уйти, потому что это было бы трусостью.
Модест для меня загадка, я не распутала еще нитей его души, да и распутал ли их кто-нибудь до конца? Как для него характерно, что он – художник, и сильный художник, – никогда не выставлял своих вещей. Ему довольно сознания, что после его смерти любители будут платить безумные деньги за его полотна и разыскивать каждый его карандашный набросок. Таков он во всем: он довольствуется тем, что сам знает о себе, и ему не нужно, чтобы это знали о нем другие. Он действительно презирает людей, всех людей, может быть, и меня в том числе, хотя клянется мне в любви.
В Володе я люблю его любовь ко мне. В Модесте – возможность моей любви к нему. Только возможность, потому что я употреблю все усилия, чтобы эта любовь в моей душе не разгорелась.
23 сентября
Похороны состоялись вчера. Описывать их было бы скучно. Все говорили, что в трауре я была очень эффектна.
Во время последней панихиды с Глашей сделался истерический припадок. Такая чувствительность странна. Не была ли она влюблена в Виктора, или даже не были ли они в близких отношениях? Я всегда старалась не вникать в эти дела.
Стало известно и завещание Виктора. Он был очень мил и, за исключением мелких сумм, завещанных его родственникам, отказал все мне. Выяснилось, что у него было процентными бумагами и акциями разных предприятий около 250 000 рублей. Я не предполагала, что у нас так много денег.
Признаюсь, ощущение себя женщиной если не богатой, то состоятельной было мне очень приятно. В деньгах есть сила, и, узнав размеры наследства, я испытала такое ощущение, словно некоторое войско, мне подвластное, стало на мою защиту. Как это ни смешно и даже как это ни позорно, но в душе я почувствовала прилив самоуверенности и гордости...
Перед самыми похоронами у меня было объяснение с Модестом. Он кротко просил у меня прощения за свое нелепое поведение в день убийства и просил провести с ним целый день. По его словам, ему надо мне сказать нечто очень важное и он не в силах сделать это в обычной обстановке. Мы поедем за город.
Как могла я ему отказать? Да и мне самой, после целой недели всевозможных тягот, завершившихся бесконечным похоронным обедом, так будет сладостно на день перенестись в другой мир! Я обещала.
В тот же день
Где есть деньги, там всегда появляются разные темные личности. Вот почему сегодняшнее посещение меня нисколько не удивило.
Глаша доложила мне, что меня, по важному делу, хочет видеть какой-то Сергей Андреевич Хмылев, – «очень добиваются». Я велела его пустить.
Вошел человечек гнусного вида, худой и низенький, с лицом безбородым, в сером обтянутом пиджаке. Поклонился он с почтительностью преувеличенной, сел на самый кончик стула и долго говорил, голосом неприятным, в нос, какую-то околесицу. Когда я уже начала терять терпение, он заговорил осмысленнее.
– Вам, сударыня, так будет покойнее. Где же вам самой хлопотать обо всем: это дело не женское. Я потому что знал еще покойного родителя вашего, всегда мне удовольствие заслужить вам. Выдадите вы мне эти двадцать тысяч, и все останется вполне благородно. Со мной, вы мне можете поверить, всякая тайна, как ко дну ключ.
Я его спросила:
– Это вам я должна дать двадцать тысяч рублей? По какой же причине?
– А насчет убийства покойного вашего мужа.
– Что же, это вы его убили?
Спросила я это нарочно, чтобы заставить своего собеседника прямо перейти к сути, но его мой вопрос не удивил нисколько.
– Никак нет-с, я не убивал. А только вы сами изволите знать, какое беспокойство, если затянется следствие, пойдут допросы, кто, да что, да как. Опять же, иногда и в виде меры пресечения – тюрьма-с. Наконец, если будут докапываться, мало ли до чего дознаются...
Мне надоели намеки и недомолвки, и я сказала:
– Послушайте, мне некогда. Говорите прямо, что вам нужно. Вы не хуже меня знаете, что даром денег не дают. Объясните, что вы мне предлагаете и за что я вам должна, по вашему мнению, заплатить двадцать тысяч.
Или мне это показалось, или лицо Хмылева стало наглым до чрезвычайности. Он отвечал мне, смотря в сторону, но уже вполне определенно:
– Я, сударыня, предлагаю вам дело покончить. Вы ничего знать не будете, и от вас ничего не потребуется, только все будет сделано. Убийца сам объявится и повинится, и следствие будет прекращено. Так что никаких обстоятельств более не откроется. Лишнего я с вас ни копейки не спрошу. В ту сумму все включено-с, и кого надо подмазать, и что надо заплатить главному лицу, и наше вознаграждение-с...
После таких слов я встала и спросила:
– Итак, это – шантаж?
– Поверьте, сударыня, – возразил мне Хмылев, – что мне достанется самая малая толика. Мы люди маленькие. Нас тут четверо работают, и я, почитай, все должен буду другим отдать. Разве я посмел бы с вас такие деньги спрашивать? Особливо, как я честь имел вашего покойного папеньку знать...
Я позвонила и приказала Глаше:
– Проводите этого господина.
Хмылев тоже встал и без всякого смущения добавил:
– Тысчонку-другую мы, может быть, и скинули бы.
– Пойдемте, дяденька, нехорошо, – сказала Глаша.
Когда дверь за Хмылевым была заперта, я спросила Глашу:
– Вы знаете этого г. Хмылева?
– Как же-с, он мой дядя...
– Ну, извините, Глаша, не слишком хороши ваши родственники. Потрудитесь больше его никогда не допускать ко мне.
– Простите, барыня, – сказала Глаша, – он точно человек, не совсем при своей чести состоящий...
Кажется, я довольно точно записала обороты речи Хмылева. Думается мне, что он юродствовал нарочно, так как не хотел говорить прямо. Но что скрывается за его двусмысленными словами? Только ли угроза обличить мои отношения с Модестом или большее?
25 сентября
Надо описать мою поездку с Модестом.
Прежде всего вмешалась почему-то Лидочка.
Когда я приказала заложить лошадь и сказала, что поеду в Любимовку, Лидочка стала упрашивать взять ее с собой.
– Милая, хорошая Наташа, позволь мне ехать тоже. Мне так хочется. Я буду такая счастливая с тобой.
Я ответила, что хочу отдохнуть, хочу быть одна. Тогда Лидочка вдруг приняла вид серьезный, сдвинула маленькие брови, даже побледнела и сказала:
– Ты – в трауре, тебе неприлично уезжать одной на целый день из дому.
– В уме ли ты, Лидочка? Это не твое дело.
– Нет, мое! Ты – моя сестра, и я не хочу, чтобы о тебе плохо отзывались.
Конечно, я сделала Лидочке выговор за ее неуместное вмешательство, она расплакалась и ушла в свою комнату. Но, должно быть, maman была права и обо мне «дурно говорят», если это уже замечают дети...
Во всяком случае все convenances[1] были соблюдены, так как мы с Модестом ехали в разных поездах. Я два часа проскучала одна в пустом вагоне, и Модест встретил меня уже на нашей деревенской платформе. Он был в охотничьей куртке и в маленькой шапочке, что очень ему шло.
Мне, после двухчасового молчания, хотелось говорить и смеяться, и свежий воздух открытых, опустелых полей опьянил меня, как шампанское. Но Модест, как, впрочем, все последние дни, был молчалив, сдержан. Он молчал почти всю дорогу от станции до имения, и мне оставалось только любоваться осенним простором и синим, синим, синим небом.
В усадьбе Никифор встретил меня почтительно: видно, до него уже долетела весть, что я – наследница после Виктора.
Когда мы остались одни, за самоваром, Модест сказал мне:
– Мне надо сказать тебе, Талия, нечто очень важное. Самое важное изо всего, что я говорил тебе в жизни.
– Говори.
– Не здесь. После. В лесу.
После чая мы пошли в лес. День был ясный. «Тютчевский», «как бы хрустальный». В безоблачности неба была непобедимая кротость. Казалось, природа говорила подступающей зиме: распинай меня, убивай меня, приму муки покорно, умру без жалобы...
Я бегала по поблеклой траве, как Мария Стюарт в третьем акте трагедии Шиллера. Я пела песенки, как бывало в пятнадцать лет, гуляя с влюбленными в меня гимназистами. Увидев белку, спасшуюся от меня на самую вершину сосны, я обрадовалась, как дитя. Ах, в каждом человеке таится жажда первобытной жизни, и сквозь краткие тысячелетия культурной жизни порою проступает дух долгих миллионов лет, когда человек бродил вместе со зверями по девственным лесам и укрывался вместе с медведями в пещерах!