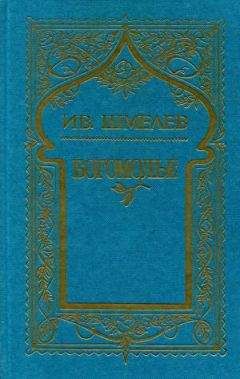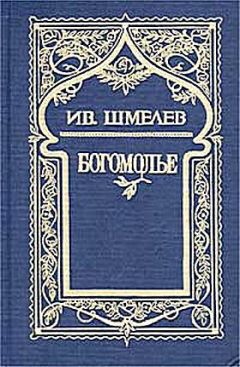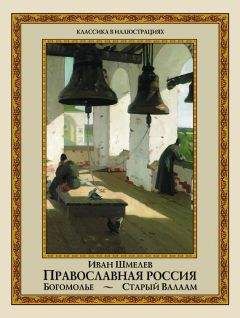– Быть тебе ве-ли-ким подвижником!
Будто печать на лице такая, как у подвижников. А тут и певчие пробудились, узнали нас, ухватились за Горкина и не отпускают: выпей да выпей с ними!
– Ты, – говорят, – самый наш драгоценный, тебе цены нет… выпьем все за твое здоровье, да за отца дьякона, да за матушку дьяконицу и тебе любимое пропоем – «Ны-не отпущаеши раба Твоего»… и тогда отпустим!
Никак не вырвешься. И отец дьякон за Горкина уцепился, на колени к себе голову его прижал – не отпускает. Дьяконица уж за нас вступилась, заплакала, а за ней девочки в веночках заплакали.
– Что же это такое… погибать мне с детьми-то здесь?!
Ну, стали мы ее утешать, Горкин уж листик белорыбицы за щеку положил, съел будто, и перцовки для виду отпил – зубы пополоскал и выплюнул. Очень они обрадовались и спели нам «Ныне отпущаеши». И так-то трогательно, что у всех у нас слезы стали, отец дьякон разрыдался. И много народу плакало из богомольцев, и даже копеечек наклали. А которые самые убогие… – им отец дьякон сухариков отпускал по горсти, «из бедного запасца»: целый мешок на телеге был у него, для нищих. Хотели еще свежими грибками угощать и самовар ставить – насилу-то вырвались мы от них, чтобы от греха подальше.
Горкин и говорит, как вырвались да отошли подальше:
– Ах, хороший человек отец дьякон, ду-ша человек. Знаю его, ни одного-то нищего не пропустит, последнее отдаст. Ну, тут, на воздухе, отдыхает, маленько разрешает… да Господь простит.
А Домна Панферовна стала говорить: как же это так, лицо духовное, да еще и на богомолье… – напротив Горкину. А Горкин ей объясняет, через чего бывает спасение: грех не в уста, а из уст!
– Грех, это – осудить человека, не разобрамши. И Христос с грешниками пировал, не отказывал. А дьякон богадельню при церкви завел, мясника Лощенова подбил на доброе дело. И певчие люди хорошие, наянливы маленько только… а утешение-то какое, народ-то как плакал, радовался! Прости Ты им, Господи. А мы не судьи. Ты вон и женский пол, а на Рождестве как наклюкалась… я те не в осуду говорю, а к примеру.
Сказал от души, а он-то уж тут как тут.
Домна Панферовна закипела и Давай, давай все припоминать, что было. То, да то, да это, да вот как на свадьбе гробовщика Базыкина, годов пятнадцать тому, кого-то с лестницы волокли… Горкин задрожал было на нее так руками – потом затряс головой и закрылся, не видеть чтобы. И так его жалко стало, и Домна Панферовна стала махать и плакаться, и богомольцы стали подходить. И тут Федя заплакал и упал на коленки перед нами – и всех тут перепугал. Говорит, в слезах:
– Это от меня пошел грех, я вас смутил-расстроил… земляничку собирал, с того и разговор был давеча… а у меня греха в мыслях не было… простите меня, грешного, а то тяжело мне!..
И – бух! – Горкину в ноги. Стали его подымать, а он и показывает рукой вперед:
– Вот какой пример жизни!..
Глядим – а меж лесочками, как раз где белая дорога идет, колокольня-Троица стоит, наполовину видно, – будто в лесу игрушка. И говорит Федя:
– Вот, перед Преподобным, простите меня, грешного!
Так это нас растрогало – как чудо! Будто из лесу-то сам Преподобный на нас глядит, Троица-то его. И стали все тут креститься на колоколенку, и просить прощенья у всех, и в ноги друг дружке кланяться, перед говеньем. А тут еще богомольцы поодаль были. Узнали потом, почему мы друг дружке кланялись, и говорят:
– Правильные вы, глядеть на вас радостно. А то думалось, как парень-то упал, – вора, никак, поймали, старичка, что ли, обокрал, босой-то, ишь как прощенья просит! А вы вон какие правильные.
Позадержались так-то, а Кривая пошла себе, насилу-то мы ее догнали.
А тут уж и Посад виден, и Лавра вся открывается, со всеми куполами и стенами. А на розовой колокольне и столбики стали обозначаться, и колокола в пролетах. И не купол на колокольне, а большая золотая чаша, и течет в нее будто золото от креста, и видно уже часы и стрелки. И городом уж запахло, дымком от кузниц.
Горкин говорит – сейчас первым делом Аксенова надо разыскать, свой дом у него в Посаде – Трифоныч Юрцов на записке записал, – игрушечное заведение у него, все его тут знают, из старины. У него и пристанем по знакомству, строение у него богатое, Кривую есть где поставить, и от Лавры недалеко. А главное – человек редкостный, раздушевный.
Идем по белой дороге, домики уж пошли, в садочках, и огороды с канавами, стали извощики попадаться и подводы. Извощики особенные, не в пролетках, а троицкие, широкие, с пристяжкой. Едет возчик, везет лубяные короба. Спрашиваем – дом Аксенова в какой стороне будет? А возчик на нас смеется:
– Ну, счастливы вы… я от Аксенова как раз!
Спрашивает еще, какого нам Аксенова, двое их: игрушечника Аксенова или сундучника? Сказали мы. Оказывается, в коробах-то у него игрушки, везет в Москву. Показывает нам, как поближе. Такая во мне радость: и Троица, и игрушки, и там-то мы будем жить!
А колокольня все вырастает, вырастает, яснеет. Видно уже на черных часах время, указывает золотая стрелка. И вот мы слышим, как начинают играть часы – грустными переливами, два раза.
К вечерням и добрались, как раз.
Прощай, дорожка… – пошла на Лавру и дальше, на города, борами.
Мы – в Посаде, у Преподобного. Ходим по тихим уличкам, разыскиваем игрушечника Аксенова, где пристать. Торопиться надо – меня на гостиницу отвести, папашеньке передать с рук на руки, Горкину надо в баню сходить помыться после дороги, перед причастием, да Преподобному поклониться, к мощам приложиться, да к Черниговской, к старцу Варнаве, сбегать поисповедаться, да всенощную захватить в соборе, – а тут путного слова не добьешься, одни мальчишки. Спрашиваем про Аксенова, а они к овражку куда-то посылают, на бугорок, где-то за третьей улицей. А мы измучились, затощали, с утра в рот ничего не брали, жара опять… Домна Панферовна сунулась попросить напиться, а на нее из ворот собака – и ни души. И возчик-то путем не сказал, а – ступайте и спрашивайте Аксенова, всякий его укажет! А всякого-то и нет. Стучим в ворота – не отзываются. А где-то варенье варят, из сада пахнет – клубничное варенье, – и будто теплыми просфорами или пирогами?.. – где-то люди имеются. Горкин говорит – час-то глухой: в баню, гляди, ушли, суббота нынче; а которые, пообедавши, спят еще, да и жарко, в домах, в холодке, хоронятся. Самая-то кипень у Лавры, а тут затишье, посад, жизнь тут правильная, житейская, торопиться некуда, не Москва.
Улицы в мягкой травке, у крылечек «просвирки» и лопухи, по заборам высокая крапива, – как в деревне. Дощатые переходы заросли по щелям шелковкой, такой-то густой и свежей, будто и никто не ходит. Домики все веселые, как дачки, – зеленые, голубые; в окошках цветут гераньки и фуксии и стоят зеленые четверти с настоем из прошлогодних ягод; занавески везде кисейные, висят клетки с чижами и канарейками, – и все скворешники на березах. А то старая развалюшка попадется, окна доской зашиты. А то – каменный, облупленный весь, трава на крыше. Сады глухие, с гвоздями на заборах, чтобы не лазили яблоки воровать; видно зеленые яблочки и вишни. Высоко змей стоит, поблескивает на солнце, слышно – трещит трещоткой. И отовсюду видно розоватую колокольню-Троицу: то за садом покажется, то из-за крыши смотрит – гуляет с нами. Взглянешь – и сразу весело, будто сегодня праздник. Всегда тут праздник, словно Он здесь живет.
Анюта устала, хнычет:
– Все животики, бабушка, подвело… в харчевенку бы какую!..
А Домна Панферовна ее пихает: вызвалась – и иди! И Федя беспокоится. В лесу-то разошелся, а тут, на посаде, и заробел:
– Ну, как я босой – да в хороший дом? Только я вас свяжу, в странноприимную пойду лучше.
Ноги у него в ссадинах, сапоги уж не налезают, да и нечему налезать, подметки отлетели. А мне к Аксенову хочется, к игрушкам. И Антипушка говорит – надо уж добиваться, Трифоныч-то хвалил: и обласкает, и Кривую хорошо поставим, и за добришко-то не тревожиться, не покрадут в знакомом месте. Горкин уж и не говорит ничего, устал. Прошли какую-то улицу, вот Домна Панферовна села на травку у забора и сипит, – горло у ней засохло:
– Как хотите, еще квартал пройдем… не найдем – на гостиницу мы с Анюткой, за сорок копеек хорошую комнату дадут.
Посидели минутку – Горкин и говорит:
– Ладно, последний квартал пройдем, не найдем – на гостиницу все пойдем, не будем уж разбиваться… а Кривую на постоялый, а может, и монахи куда поставят.
Слышим из окошка – кукушка на часах три прокуковала. Стали в окошко выкликивать – никого, чижик только стучит по клетке, чисто все померли. Через домик, видим, – старик из ворот вышел, самоварчик вытряхивает в канавку. Спрашиваем его, а он ничего не слышит, вовсе глухой. В ухо ему кричим – где тут Аксенов проживает? А он ничего не понимает, шамкает: «Мы овсом не торгуем». И ушел с самоварчиком.