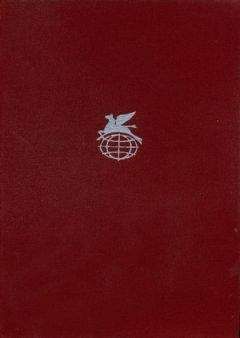— Ну, что же? Без тебя, вероятно, я бы погиб… Спасибо! Ты кто?
Он склонил голову на-бок, прислушиваясь к шороху в соседней комнате и вздрагивая.
— Это ваша жена? — тихонько спросил я.
— Жена. Все. Вся жизнь! — раздельно, не громко, глядя в пол, сказал этот человек и снова начал крепко растирать голову ладонями.
— Чаю выпить, — а?
Он рассеянно пошел к двери, но остановился, вспомнив, что прислуга объелась рыбой и ее отправили в больницу.
Я предложил поставить самовар, он согласно кивнул головой и, видимо, забыв, что полураздет, шлепая босыми ногами по мокрому полу, отвел меня в маленькую кухню. Там, прислонясь спиной к печке, он повторил:
— Без тебя я бы замерз, — спасибо!
И вдруг, вздрогнув, уставился на меня испуганно расширенными глазами.
— Что же было бы с нею тогда? О, господи…
Быстро, шопотом, глядя в темную дыру двери, он сказал:
— Ты видишь, — она больная. У нее застрелился сын, музыкант, в Москве, а она все ждет его, вот уже два года, почти…
Потом, когда мы пили чай, он бессвязно, не обычными словами рассказал, что женщина — помещица, он — учитель истории, был репетитором ее сына, влюбился в нее, она ушла от мужа-немца, барона, — пела в опере, они жили очень хорошо, хотя первый муж ее всячески старался испортить ей жизнь.
Рассказывал он, как будто читая неясно написанное, прищурив глаза, напряженно присматриваясь к чему-то в полутьме грязной кухни, с прогнившим у печки полом. Обжигался, прихлебывая чай, лицо его морщилось, круглые глаза пугливо мигали.
— Ты — кто? — еще раз спросил он. — Да, — крендельщик, рабочий. — Странно, не похоже. Что это значит?
Слова его звучали беспокойно, он смотрел на меня недоверчиво, взглядом затравленного.
Я кратко рассказал о себе.
— Вот как? — тихо воскликнул он. — Да, вот как…
И вдруг оживился, спрашивая:
— Ты знаешь сказку о «Гадком утенке»? Читал?
Лицо его исказилось, он начал говорить с гневом, изумляя меня неестественными — до визга — повышениями сиповатого голоса.
— Эта сказка — соблазняет! В твои годы я тоже подумал — не лебедь ли я? И — вот… Должен был итти в академию — пошел в университет. Отец — священник — отказался от меня. Изучал — в Париже — историю несчастий человечества, историю прогресса. Писал, да. О, как все это…
Он подскочил на стуле, прислушался и затем сказал мне:
— Прогресс — это выдумано для самоутешения! Жизнь — неразумна, лишена смысла. Без рабства — нет прогресса, без подчинения большинства меньшинству — человечество остановится на путях своих. Желая облегчить нашу жизнь, наш труд, мы только усложняем ее, увеличиваем труд. Фабрики и машины для того, чтобы делать еще и еще машины, это — глупо. Все больше становится рабочих, а необходим только крестьянин, производитель хлеба. Хлеб — это все, что надо взять трудом у природы. Чем меньше нужно человеку — тем более он счастлив, чем больше желаний — тем меньше свободы.
Быть может — не в этих словах, но именно эти оглушающие мысли впервые слышал я, да еще в такой резкой, оголенной форме. Человек, взвизгнув от возбуждения, боязливо останавливал взгляд на двери, открытой во внутренние комнаты, минуту слушал тишину и снова шептал почти с яростью.
— Пойми, — каждому нужно немного: кусок хлеба и женщину…
Заговорив о женщине таинственным шопотом, словами, которых я не знал, стихами, которых не читал, — он вдруг стал похож на вора Башкина.
— Беатриче, Фиаметта, Лаура, Нинон, — шептал он имена незнакомые мне и рассказывал о каких-то влюбленных королях, поэтах, читал французские стихи, отсекая ритмы тонкой, голой до локтя рукою.
— Любовь и голод правят миром, — слышал я горячий шопот и вспомнил, что эти слова напечатаны под заголовком революционной брошюры «Царь-голод», — это придавало им в моих мыслях — особенно веское значение.
— Люди ищут забвения, утешения, а не — знания!
Эта мысль окончательно поразила меня.
Я ушел из кухни утром, — маленькие часы на стене показывали шесть с минутами. Шагал в серой мгле по сугробам, слушая вой метели и вспоминая яростные взвизгивания разбитого человека; чувствовал, что его слова остановились где-то в горле у меня, душат. Не хотелось итти в мастерскую видеть людей, — и, таская на себе кучу снега, я шатался по улицам Татарской слободы до поры, когда стало светло и среди волн снега начали нырять фигуры жителей города.
Больше я никогда не встречал учителя и не хотел встретить его. Но впоследствии я неоднократно слышал речи о бессмыслии жизни и бесполезности труда, — их говорили безграмотные странники, бездомные бродяги, «толстовцы» и высоко-культурные люди. Говорил об этом иеромонах, магистр богословия, химик, работавший по взрывчатым веществам, биолог, — неовиталист и многие еще. Но эти идеи уже не влияли на меня так ошеломляюще, как тогда, когда я впервые познакомился с ними.
И только, вот, года два тому назад — спустя более тридцати лет после первой беседы на эту тему — я неожиданно услышал те же мысли и почти в тех же словах от старого знакомого моего, рабочего.
Однажды у меня с ним завязалась беседа «по душе» и этот человек, невесело усмехаясь, сказал мне с тою бесстрашной искренностью, которой обладают, кажется, только русские люди.
— А.М., - милый, — ничего не надо, никуда все это: академии, науки, аэропланы, — лишнее! Надобно только угол тихий и — бабу, чтоб я ее целовал, когда хочу, а она мне честно — душой и телом — отвечала, — вот! Вы — по интеллигентски рассуждаете, вы — уж не наш, а — отравленный человек, для вас идея выше людишек, вы по-еврейски думаете: человек — для субботы?
— Евреи не думают так…
— Чорт их знает, как они думают, — народишко темный, — ответил он, бросив окурок папиросы в реку и следя за ним.
Мы сидели на набережной Невы, на гранитной скамье, лунной ночью осени, оба истерзанные днем бесполезных волнений, упрямого, но безуспешного желания сделать что-то доброе, полезное.
— Вы с нами, а — не наш, вот что я говорю, — продолжал он вдумчиво, тихо. — Интеллигентам приятно беспокоиться, они издаля веков присовокупились к бунтам. Как Христос был идеалистом и бунтовал для надземных целей, так и вся интеллигенция бунтует для утопии. Бунтует — идеалист, а с ним никчемность, негодяйство, сволочь, и все — со зла: видят они, что места в жизни нет для них. Рабочий восстает для революции, — ему нужно добиться правильного распределения орудий и продуктов труда. Захватив власть окончательно, — думаете, согласится он на государство? Ни за что. Все разойдутся, и каждый, за свой страх, устроит себе спокойный уголок…
— Техника, говорите? Так она еще туже затягивает петлю на шее нашей, еще крепче вяжет нас. Нет, надо освободиться от лишнего труда. Человек покоя хочет. Фабрики да науки покоя не дадут. Одному — немного надо. Зачем я буду город громоздить, когда мне только маленький домик нужен? Где кучей живут, там — и водопроводы, и канализация, и электричество. А попробуйте без этого жить, — как легко будет! Нет, много лишнего у нас, и все это — от интеллигенции. Потому я и говорю: интеллигенция — вредная категория.
Я сказал, что никто не умеет так глубоко и решительно обессмысливать жизнь, как это делаем мы, русские.
— Самый свободный народ по духу, — усмехнулся мой собеседник. — Только, — вы не сердитесь, я правильно рассуждаю, так миллионы наши думают, да — сказать не умеют… Жизнь надо устроить проще, тогда она будет милосерднее к людям…
Человек этот никогда не был «толстовцем», не обнаруживал склонности к анархизму, — я хорошо знаю историю его духовного развития.
После беседы с ним я невольно подумал: а что, если, действительно, миллионы русских людей только потому терпят тягостные муки революции, что лелеют в глубине души надежду освободиться от труда? Минимум труда, — максимум наслаждения, это очень заманчиво и увлекает, как все неосуществимое, как всякая утопия.[5]
И мне вспомнились стихи Генрика Ибсена:
Я консерватор? О нет!
Я все тот же, кем был всю жизнь, —
Не люблю перемещать фигуры,
Но — хотел бы смешать всю игру.
Помню только одну революцию, —
Она была умнее последующих
И могла бы все разрушить —
Разумею, конечно, Всемирный потоп.
Но — и тогда Дьявола надули!
Вы знаете — Ной стал диктатором.
О, если это можно сделать честнее,
Я не откажусь помочь вам, —
Вы хлопочете о Всемирном потопе,
Я же, с радостью, суну торпеду под ковчег.
Лавка Деренкова давала ничтожный доход, а количество людей и «делишек», нуждавшихся в материальной помощи, — все возрастало.
— Надо придумать что-нибудь, — озабоченно пощупывая бородку, говорил Андрей и виновато улыбался, тяжко вздыхал.