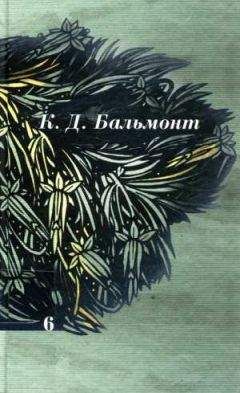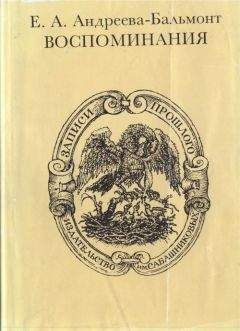Кто умел так говорить о теле, должен был найти для выражения страсти особые слова, каких не встретишь у другого. И на самом деле, если взять любовные стихи других поэтов, поймешь, что это – любовные стихи. Если взять строки страсти у тех поэтов, которые все свое творчество основали на страсти, поэтов нежных, утонченных, по праву наименованных сладкопевцами, мы найдем у них много пленительных шопотов, звуков напевных, и вскриков, и чар усыпляющих, сладко влюбляющих, слов поцелуйных. Но только стихийный буйный Уитман, чуждый комнатного воздуха, спел такой гимн страсти, который, думается мне, является единственным среди всех других.
«Один час безумья и радости» – сплошная страсть, сплошная нежность, сплошной вскрик вольной души, влюбившейся в тело, полюбившей его, души, обвенчавшейся с телом на свадебном празднестве яркой внезапности. Тут не лепеты наши, не двери и лестницы, не закрытые окна и погасшие свечи, а разрыв скалы от касания молнии, и радость мгновенно взметнувшейся влаги дремавших в сокрытом ключей.
Один час безумья и радости!
О, исступленный! Не умеряй меня!
(Что это так освобождает меня в этих бурях?
Что означают вскрики мои среди молний и бешеных ветров?).
О, испить мистических бредов глубже, чем кто бы то ни было!
О, дикие и нежные боли! (Я их вам завещаю, дети мои,
Я их вам возвещаю, не без причины, о, жених и невеста!).
О, отдаться тебе, кто бы ты ни была, и взять тебя, отдающуюся, вопреки всему миру!
Возвратиться в Рай! О, стыдливая, женственная!
Привлечь тебя близко к себе, и впервые прижать к тебе губы мужчины, который решителен!
О, смущение, трижды завязанный узел, глубокий и темный пруд,
Весь свободный и светом залитый!
О, умчаться туда, где наконец достаточно места, достаточно воздуха!
Быть вольным от прежних цепей и условностей, я от моих и ты от твоих!
Найти неожиданно лучшее, что есть в Природе, и им наслаждаться небрежно!
Почувствовать рот свой свободным, который был замкнут,
Почувствовать ясно, что нынче, или когда бы то ни было, я доволен собой, я доволен!
О, что-то, чего не знал! что-то во сне заколдованном!
Ускользнуть совершенно от всяких зацепок чужих, от якорей, трюмов!
Вольно нестись! вольно любить! броситься прямо в опасность без удержу!
Заигрывать с гибелью, звать ее, ну-ка поди сюда!
Восходить, возлетать к небесам любви, мне назначенной!
Подниматься туда своей опьяненной душой! Погибнуть, раз это должно!
Весь остаток жизни наполнить часом, часом одним полноты и свободы!
Коротким часом одним безумья и радости!
Уолт Уитман – освобожденный и свободный. Он вестник освобождения для всех, кто к нему прикоснется, как всех освобождает вид Моря, водопада, или великих рек, шум ветра, гул грозы, разлитие красок рассвета по небу, и тайна углубления многозвездной лазури, по которой стелются покровы Ночи. Уолт Уитман – размах. Он – птица в воздухе. Он – как тот морской орел, который зовется фрегатом, остро зрение у этой птицы, и питается она летучими рыбами, и вся как бы состоит из стали; она – как серп, как коса, крылья у нее – как воздушные ятаганы, когда она парит в воздухе; играя металлически-морским отливом перьев, она вся – боевое стремленье. Так она и зовется по-английски: Man-of-War-Bird, Птица-боец. В один из морских часов своих, Уитман спел этой птице гимн, в котором мы чувствуем крылья, ощущаем Море и Воздух, в их слитной безбрежности.
Птица-боец (Фрегат)
Ты, спавший на буре всю ночь,
Проснувшийся весь обновленный на своих непомерных крылах,
(Гроза разразилась? Ты выше поднялся, над дикой,
На туче покоился, туча качала тебя, рабыня баюкала),
Ты синяя точка теперь, далеко, далеко на небе,
Плывешь,
Меж тем как на палубе здесь я слежу за тобой, выплывая на светлую полосу,
(Сам – точка, лишь атом в пловучей пустыне миров).
Далеко, далеко на море,
После ночи с свирепым приливом, усеявшим берег обломками,
С новым днем, как сегодня, счастливым и ясным,
С зарей возрастающе-розовой,
С ослепительным солнцем, в просторе лазурного чистого воздуха,
Ты тоже являешься вновь.
Ты, рожденный соперничать с вихрем, (ты, ветер, все ветры),
Ты, готовый схватиться с простором небес, с ураганом, с землею и с морем,
Ты, воздушный корабль, паруса никогда не роняющий,
Дни, ночи, недели, без устали, прямо, вперед, чрез пространства, чрез царства, ты кружишься, мчишься,
Ты в сумерках был в Синегале, ты утром в Америке,
Ты играешь меж вспыхнувших молний, и в тучах громовых,
В них, в эти забавы ты душу мою захвати, –
О, что б это был за восторг! твой восторг!
Тяжелым камнем падает птица вниз, на добычу. Тяжелым камнем падает мысль поэта, который воистину обладает крыльями и смотрит не в маленький замкнутый угол ограниченной мечтательности, а глядит на Мир и Жизнь во всей их объемности.
После воздушных ликующих строк Жизнь подарит глядящему на нее иные строки. Поэт, упиваясь отдельностью, вольностью, только что реял в провалах воздушных пространств. Но вот перед ним странное что-то, что он зовет – Городской мертвый дом.
У ворот городского мертвого дома,
Когда праздно я шел, уходя дорогой своею от криков,
Я с любопытством замедлил шаги, ибо вот, отверженный призрак, тело несут проститутки умершей,
Тело ее никто не зовет, они положили его на сырой, на кирпичный пол,
Тело ее, божественной женщины, я вижу тело ее, я лишь один на него смотрю,
Ни эта холодная тишь, ни вода, что каплет из крана, ни мертвенный запах ответа во мне не находят,
Лишь дом этот – дивный дом – этот тонкий красивый дом погибший,
Этот бессмертный дом, больше чем все ряды зданий, когда либо выстроенных,
Красивый страшный обломок жилище души – сам душа,
Никем не воззванный дом, избегаемый всеми – прими дыханье одно от моих содрогнувшихся губ,
Возьми слезу одинокую, меж тем как я ухожу, как мысль о тебе,
Мертвый дом любви – дом греха и безумья, разбитый, разрушенный,
Дом жизни, недавно еще полный смеха и говора – но бедный о, бедный дом, и тогда уже мертвый,
Месяцы, годы исполненный откликов, убранный дом – но мертвый, но мертвый, мертвый.
Мысль Уитмана, в живом живая, среди болей чужих горящая болью своей и чужой, не случайна останавливается на чудовищных следствиях наших общих уродливостей. Она слышит и видит все.
Я сижу и гляжу на все скорби мира, на весь его гнет и стыд,
Я слышу рыданья, припадок рыданий юношей, полных раскаянья, после дел уже сделанных,
Я вижу убогую жизнь старухи, гонимой своими детьми, умирающей, полной отчаянья, скорбной, худой,
Я вижу, как муж обращается дурно с женой, я вижу, как соблазнитель вовлекает в обман юных женщин,
Я вижу, как ревность и жжет и грызет, как любовь без ответа старается спрятаться, я вижу все это здесь на земле,
Я вижу все то, что свершают сраженье, чума, тиранния, узников вижу и мучеников,
Я вижу голод на море, смотрю, как матросы жребий бросают, кто будет убит, чтобы жизни других сохранить,
Я вижу, как наглые люди заносчиво унижают рабочих, теснят бедняков, и негров, и всех угнетенных;
Все это – всю эту низость и пытку, которой конца нет, я все это взором объемлю,
Вижу, слышу, молчу.
В этих поэтических перечислениях перед нами два разряда бичей, которые хлещут и хлещут нас. Одни носят как бы вечный характер, во всяком случае характер всеисторический. Не будем пока говорить о них, хотя и о них, как об устранимых, говорить в своей поэтической теодицее Уитман. Бичи другие, легко устранимые, временные, чисто-условные, хлещут нас также больно, уродуют, мстят, забивают нас насмерть. Эти бичи – неправосудности нашей жизни, в основных ее устроениях. Мы живем в злом доме, фундамент его – на трупах, на полутрупах, на живых мучимых. Нужно разрушить злой дом и построить другой. Мы – люди, мы – строители, неужели не властны мы выстроить все, что подскажет нам чувство, и нарисует мысль!
Путь строенья – борьба. Борьба отъединенного с собой, и бой отъединенного с слитной громадой соединенных чудовищ, которые живут неправосудностями.
Путь строительства – путь, усеянный красными цветами. Уитман это знает. Но он себя хочет отдать, лишь бы этот путь существовал. «Капайте, капли», говорит он.
Капайте, капли! оставляйте вены мои голубые!
О, капли меня! медленные капли, сочитесь!
Чистосердечно от меня отпадая, капайте, капли кровавые,
Из ран, нанесенных, чтоб волю вам дать, на волю из плена вас выпустить,
Из лица моего, изо лба моего, и губ,
Из груди моей, изнутри, где я был сокрыт, вытесняйтесь, красные капли, исповедальные капли,
Запятнайте страницу каждую, запятнайте каждую песню, которую я пою, кровавые капли,
Дайте узнать им ваш алый жар, дайте блистать им,
Насытьте их вами, совсем пристыженными, мокрыми,
Сияйте над всем, что я написал или что еще напишу, кровавые капли,
В вашем свете да будет все видно, капли румяно-красны.
Да будет все видно, и да будет все пересоздано. Все заново.
Путь пересоздания Уитман видит в торжестве Демократии. Но он понимает это слово не в том жалком ограниченном партийном смысле, как понимают и применяют это слово теперь. Не политически-экономическая формула для него это, а религиозно-философская система, в которую политически-экономические вопросы входят лишь как часть, я сказал бы – как внешняя часть.