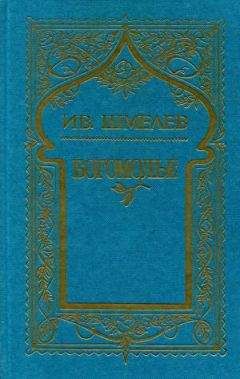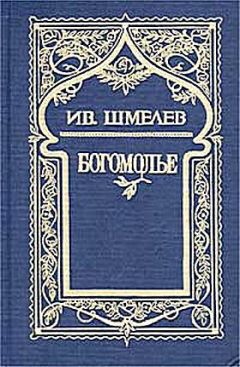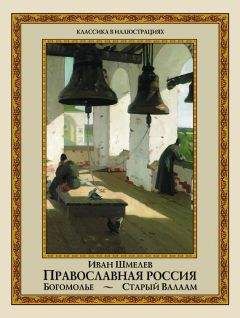Направо – большой собор, с синими куполами с толстыми золотыми звездами. Из цветника тянет свежестью – белые служки обильно поливают клумбы, пахнет тонко петуньями, резедой. Слышно даже сквозь благовест, как остро кричат стрижи.
Великая колокольня – Троица – надо мной. Смотрю, запрокинув голову, креста не видно! Падает с неба звон, кружится голова от гула, дрожит земля.
Народу больше. Толкают меня мешками, чайниками, трут армяками щеки. В давке нечем уже дышать. Трогает кто-то за картузик и говорит знакомо:
– Наш словно паренек-то, знакомый… шли надысь-то!..
Я узнаю старушку с красавочкой-молодкой, у которой на шее бусинки. Она – Параша? – ласково смотрит на меня, хочет что-то сказать как будто, но отец берет на руки, а то задавят. Под высокой сенью светится золотой крест над чашей, бьет из креста вода; из чаши черпают воду кружками на цепи. Я кричу:
– Из креста вода!.. чудо тут!..
Я хочу рассказать про чудо, но отец даже и не смотрит, говорит – после, а то не продерешься. Я сижу на его плече, оглядываюсь на крест под сенью. Там все черпают кружками, бьет из креста вода.
У маленькой белой церкви, с золотой кровлей и одинокой главкой, такая давка, что не пройдешь. Кричат страшные голоса:
– Не напирайте, ради Христа-а… зада-вите!.. ой, дышать нечем… полегше, не напирайте!..
А народ все больше напирает, колышется. Отец говорит мне, что это самая Троица, Троицкий собор. Преподобного Сергия мощи тут. Говорят кругом:
– Господи, и с детями еще тут… куды еще тут с детями! Мужчину вон задавили, выволокли без памяти… куды ж с детями?!.
А сзади все больше давят, тискают, выкрикивают, воздыхают, плачутся:
– Ох, родимые… поотпустите, не передохнешь… дыхнуть хоть разок дайте… душу на покаяние…
Сцепляются мешками и чайниками, плачут дети. Идет высокий монах в мантии, благословляет, махает четками:
– Расступитесь, дорогу дайте!..
Перед ним расступаются легко, откуда только берется место! Монах проходит, благословляя, вытягивая из толпы застрявшую сзади мантию. Отец проносит меня за ним.
В церкви темно и душно. Слышно из темноты знакомое – Горкин, бывало, пел:
Изведи из темницы ду-шу мо-ю-у!..
Словно из-под земли поют. Плачут протяжно дети. Мерцает позолота и серебро, проглядывают святые лики, пылают пуки свечей. По высоким столбам, которые кажутся мне стенами, золотятся-мерцают венчики. В узенькие оконца верха падают светлые полоски, и в них клубится голубоватый ладан. Хочется мне туда, на волю, на железную перекладинку, к голубку: там голубки летают, сверкают крыльями. Я показываю отцу:
– Голубки живут… это святые голубки, Святой Дух?
Отец вздыхает, подкидывает меня, меняя руку. Говорит все, вздыхая: «Ну, попали мы с тобой в кашу… дышать нечем». На лбу у него капельки. Я гляжу на его хохол, весь мокрый, на капельки, как они обрываются, а за ними вздуваются другие, сталкиваются друг с дружкой, делаются большими и отрываются, падают на плечо. Белое его плечо все мокрое, потемнело. Он закидывает голову назад, широко разевает рот, обмахивается платочком. На черной его шее надулись жилы, и на них капельки. Подо мной – головы и платки, куда-то ползут, ползут, тянут с собой и нас. Все вздыхают и молятся: «Батюшка Преподобный, Угодник Божий… родимый, помоги!..» Кричит подо мной баба, я вижу ее запавшие, кричащие на меня глаза:
– Ой, пустите… не продохну… девка-то обмерла!..
Ее голова, в черном платке с желтыми мушками, проваливается куда-то, а вместо нее вылезает рыжая чья-то голова. Кричит за нами:
– Бабу задавили!.. православные, подайтесь!..
Мне душно от духоты и страха, кружится голова. Пахнет нагретым флердоранжем, отец машет на меня платочком, но ветерка не слышно. Лицо у него тревожное, голос хриплый:
– Ну, потерпи, голубчик, вот подойдем сейчас…
Я вижу разные огоньки – пунцовые, голубые, розовые, зеленые… – тихие огоньки лампад. Не шелохнутся, как сонные. Над ними золотые цепи. Под серебряной сенью висят они, повыше и пониже, будто на небе звездочки. Мощи тут Преподобного – под ними. Высокий, худой монах, в складчатой мантии, которая вся струится-переливается в огоньках свечей, недвижно стоит у возглавия, где светится золотая Троица. Я вижу что-то большое, золотое, похожее на плащаницу – или высокий стол, весь окованный золотом, – в нем… накрыто розовой пеленой. Отец приклоняет меня и шепчет: «В главку целуй». Мне страшно. Бледный палец высокого монаха, с черными горошинами четок, указывает мне прошитый крестик из сетчатой золотой парчи на розовом покрове. Я целую, чувствуя губами твердое что-то, сладковато пахнущее миром. Я знаю, что здесь Преподобный Сергий, великий Угодник Божий.
Мы сидим у длинного розового дома на скамейке. Мне дают пить из кружки чего-то кисленького и мочат голову. Отец отирается платком, машет и на себя, и на меня, говорит – едва переводит дух, – чуть не упал со мной у мощей, такая давка. Говорят – сколько-то обмерло в соборе, водой уж отливали. Здесь прохладно, пахнет политыми цветами, сырой травой. Мимо проходят богомольцы, спрашивают – где тут просвирки-то продают. Говорят: «Вон, за уголок завернуть». И правда: теплыми просфорами пахнет. Вижу на уголке розового дома железную синюю дощечку; на ней нарисована розовая просвирка, такая вкусная. Из-за угла выходят с узелками, просвирки видно. Молодой монашек, в белом подряснике с черным кожаным поясом, дает мне теплую просфору и спрашивает, нагибаясь ко мне:
– Н-не у-у…знал м-меня? А я Са-саня… Юрцо…цов!
Я сразу узнаю: это Саня-заика, послушник, нашего Трифоныча внучек. Лицо у него такое доброе, в золотухе все; бледные губы выпячиваются трубочкой и дрожат, когда он силится говорить. Он зовет нас в квасную, там его послушание:
– Ка-ка…каваску… на-шего… ммо… мона-стырского, отведайте.
И Федя с нами на лавочке. Он в новых сапогах, в руке у него просвирка, но он не ест – только что исповедовался, нельзя. Рассказывает, что были с Горкиным у Черниговской, у батюшки-отца Варнавы исповедовались… а Горкин теперь в соборе, выстоит до конца. Что-то печален он, все головой качает. Говорит еще, что Домна Панферовна сама по себе с Анютой, а Антипушка с Горкиным, и ему надо опять в собор. Саня-послушник говорит отцу:
– Ка-ка…васку-то… мо-мо…пастырского…
Ведет нас в квасную, под большой дом. Там прохладно, пахнет душистой мятой и сладким квасом. Маленький старичок – отец квасник – радушно потчует нас «игуменским», из железного ковшика, и дает по большому ломтю теплого еще хлеба, пахнущего как будто пряником. Говорит: «Заходите завтра, сладким-сыченым угощу». Мы едим хлеб и смотрим, как Саня с другим моиашком помешивают веселками в низких кадках – разводят квас. И будто в церкви: висят на стене широкие иконы, горят лампады. Квас здесь особенный, троицкий, – священный, благословленный, отец квасник крестит и кадки, и веселки, когда разводят, и когда затирают – крестит. Оттого-то и пахнет пряником. Отец спрашивает – доволен ли он Саней. Квасник говорит:
– Ничего, трудится во славу Божию… такой ретивый, на досточке спит, ночью встает молиться, поклончики бьет.
Велит Трифонычу снести поклончик, хорошо его знает, как же:
– Земляки с Трифонычем мы, с-под Переяславля… у меня и торговлишка была, квасом вот торговал. А теперь вот какая у меня закваска… Господа Бога ради, для братии и всех православных христиан.
Такой он ласковый старичок, так он весь светится – словно уж он святой. Отец говорит:
– Душа радуется смотреть на вас… откуда вы такие беретесь?
А старичок смеется:
– А Господь затирает… такой уж квасок творит. Да только мы квасок-то неважный, ки-ислый-кислый… нам до первого сорту далеко.
Оба они смеются, а я не понимаю: какой квасок?.. Отец говорит:
– Плохие мы с тобой молельщики, на гостиницу пойдем лучше.
Несет меня мимо колокольни. Она звонит теперь легким, веселым перезвоном.
За Святыми Воротами все так же сидят и жалобно просят нищие. Извощики у гостиницы предлагают свезти в Вифанию, к Черниговской. Гостинник ласково нам пеняет:
– Что ж маловато помолились? Ну, ничего, с маленького не взыщет Преподобный. Сейчас я самоварчик скажу.
В золотых покоях душно и вязко пахнет согревшейся земляникой и чем-то таким милым… Отец дает мне в стаканчике черного сладкого вина с кипятком – кагорчика. Это вино – церковное, и его всегда пьют с просвиркой. От кагорчика пробегает во мне горячей струйкой, мне теперь хорошо, покойно, и я жадно глотаю душистую, теплую просфору. За окнами еще свет. Перезванивают в стемневшей Лавре; вздуваются занавески от ветерка.
Я просыпаюсь от голосов. Горит свечка. Отец и Горкин сидят за самоваром. Отец уговаривает:
– Чаю-то хоть бы выпил, затощаешь!