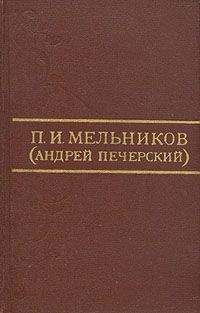Ознакомительная версия.
Глава девятнадцатая
Середи холмов, ложбин и оврагов, середь золотистых полей и поросших кудрявым кустарником пригорков, меж тенистых рощ н благовонных сенных покосов, верстах в пятидесяти от Волги, над сонной, маловодной речкой, по пологому склону горы больше чем на версту вытянулась кострикой и пеньковыми оческами заваленная улица с тремя сотнями крестьянских домов. Дома все большие, высокие, но чрезвычайно тесно построенные. Беда, ежели вспыхнет пожар, не успеют оглянуться, как все село дотла погорит.
Дома стареньки, зато строены из здоровенного унжинского леса и крыты в два теса. От большой улицы по обе стороны вниз по угорам идут переулки; дома там поменьше и много беднее, зато новее и не так тесно построены. Во всем селенье больше трехсот дворов наберется, опричь келейных рядов, что ставлены на задах, ближе к всполью. В тех келейных рядах бобыльских да вдовьих дворов не меньше пятидесяти.
На самом верху горы большая каменная пятиглавая церковь стоит. Старинной постройки она, — помнит еще дни царя Алексея Михайловича… Видно, что в старые годы была она богата, но потом обедняла до нищеты и вконец обветшала. Зеленая черепица на главах вполовину осыпалась, железна крыша проржавела, штукатурная облицовка облезла, карнизы, наличники, сандрики[357] и узорочный кафельный вокруг церкви пояс обвалились, от трех крылец, на кувшинных столбах с висячими арками, уцелело только одно, на колокольне березка выросла. Вокруг церкви грязная базарная площадь, обстроенная деревянными низенькими, ветхими лавчонками. Кроме такого «гостиного двора», стоят на той площади два старых каменных дома: в одном волостное правление, в другом — белая харчевня. И в том и в другом доме зимой, сколько дров ни жги — вода мерзнет. Под горой вдоль речки в два ряда тянутся кузницы, а на горе за селом к одному месту скучилось десятков до трех ветряных мельниц. Не для размола муки, не для обдирки крупы, не для битья конопляного масла ставлены те мельницы, — рыболовные уды точат на них.
Село Миршенью зовется, оно казенное, а в старые годы бывало «вотчиной дома Жывоначальные троицы и преподобного Сергия, Радонежского чудотворца», самого крупного во время оно русского помещика, владевшего больше чем ста тысячью душами крепостных крестьян. Земля при Миршени добрая, родит хорошо, но на тысячу душ ее маловато.
К тому же земли от села пошли клином в одну сторону, и на работу в дальние полосы приходится ездить верст за десяток и дальше, оттого заполья[358] и не знали сроду навоза, оттого и хлеб на них плохо родился. Промыслами миршенские мужики кормятся отхожими и домашними. Из бедных кто в бурлаки идет, кто на Низу на ловецких ватагах работает, кто в самарских степях пшеницу жнет либо гурты скота в верховые города прогонять нанимается. Которые и позажиточнее, те сами голов по тридцати крупного скота да по сотням баранов на ярманке у Ханской ставки скупают, мясо продают по базарам, а зимой мороженое отвозят в Ростов и Ярославль на продажу.
Сало топят, кожи да овчины выделывают. Другие денежные люди осенью ездят в Уральск и Саратов и там, накупив коренной рыбы, развозят ее зимой по деревням. А которые за наживой на сторону не отлучаются, те дома два промысла знают — сети для низовой рыбной ловли вяжут да уды для нее же работают. Бабы треплют коноплю, прядут ее вместе с мужиками и вяжут сети от одноперстника до ладонника[359].
Кто подостаточнее, те проволоку тянут из железа и раздают ее односельцам на выделку рыболовных уд. Эти секут ее на жеребье и мальчишкам да подросткам дают оттачивать на ветряных мельницах, устроенных с особыми точильнями. С Покрова до вешнего Николы все мальчишки лет от десяти до пятнадцати, с раннего утра до поздней ночи, оттачивают жеребейки, взрослые глянчат[360] их и гнут на уды. Большие уды, что зовутся «кованцами», что идут на белугу и весят по пяти да по шести фунтов каждая, кузнецы куют на кузницах.
Так кормятся миршенцы, но у них, как и везде, барыши достаются не рабочему люду, а скупщикам да хозяевам точильных мельниц, да тем еще, что железо сотнями пудов либо пеньку сотнями возов покупают. Работая из-за низкой платы, бедняки век свой живут ровно в кабале, выбиться из нее и подумать не смеют.
Ропщут на судьбу миршенцы и так говорят: "Старики нам говаривали, что в годы прежние, когда прадеды наши жили за монастырщиной, житье всем было привольное, не такое, какое нам довелось. Доброе было житье и во всем изобильное. И пахоты богачество[361], и лугов вдоволь, и лесу руби не хочу, сукрома[362] в анбарах от хлеба ломятся, скирды да одонья ровно горы на гумнах стоят, года по три нетронутые, немолоченные.
И птицы и животины в каждом дому водилось с залишком, без мясных щей никто за обед не садился, а по праздникам у каждой хозяйки жарилась гусятина либо поросятина. В лесу свои бортевые ухожья[363], было меду ешь, сколько влезет, брага да сычёны квасы без переводу в каждом дому бывали. Да, деды живали, мед да пиво пивали, а мы живем и корочки хлеба порой не сжуем; прадеды жили — ни о чем не тужили, а мы живем — не плачем, так ревем". Про старые годы так миршенцы говаривали, так сердцем болели по былым временам, вспоминая монастырщину и плачась о ней, как о потерянном рае. «Не нажить прошлых дней, — они жалобились, — не светить на нас солнышку по-старому».
Так говорили, не зная монастырских порядков, не помня ни владычних десятильников, ни приказчиков, ни посельских старцев, ни тиунов, что судили и рядили по посулам да почестям… Славили миршенцы старину, забывши доводчиков, что в старые годы на каждом шагу в свою мошну сбирали пошлины.
Славили монастырщину, не зная, не ведая о приказных старцах и монастырских слугах и служебниках[364], что саранчой налетали и все поедали в вотчинах. И того не помнили миршенцы, как тиуны да приказчики с их дедов и прадедов, опричь судных пошлин, то и дело сбирали «бораны». Кто из дома в дом перешел на житье, готовь «боран перехожий», кто хлеб продал на торгу, «спозём» подавай, сына выделил — «деловое», женил его — и с князя и с княгини[365] «убрусный алтын», да, кроме того, хлеб с калачом; а дочь замуж выдал — «выводную куницу» плати. А доводчикам да недельщикам[366], что ни ступил, то деньги заплатил: вора он поймал — плати ему «узловое», в кандалы его заковал — плати «пожелезное», поспоришь с кем да помиришься — и за то доводчику выкладывай денежки, плати «заворотное».
До сих пор в Миршени за базарными лавками поросший лопухом и чернобыльником пустырь со следами заброшенных гряд и погребных ям — «Васьяновым правежом»[367] зовется.
Тут во дни оны стоял монастырский двор, а живали в нем посельские старцы, и туда же наезжали чернцы и служебники троицкие. На том дворе без малого сорок годов проводил трудообильную жизнь свою преподобный отец Вассиан, старец лютой из поповского рода. Сильной и грозной рукой все сорок лет над Миршенью он властвовал. Перед самыми окнами чернической кельи своей смиренный старец каждый день, опричь воскресенья, перед божественной литургией людей на правеж становил, батогами выбивая из них недоимки. Вымучивал старец немалые деньги и в свой карман, а супротивников в погребах на цепь сажал и бивал их там плетьми и ослопьем[368], а с неимущих, чтоб насытить бездонную утробу свою, вымогал платежные записи[369].
Зачастую бывало, что святой отец пьяным делом мужиков и ножом порол. От Васьяновой тесноты[370], боя и увечья крестьяне врознь разбегались, иные шли на Волгу разбои держать, другие, насильства не стерпя, в воду метались и в петле теряли живот.
В Миршени за каменным трактиром, что прежде бывал тож монастырским двором, есть местечко за огородом, «Варламовой баней» зовется оно. Миршенские бабы да девки баню ту не забыли: в попреках подругам за разгульную жизнь и теперь они ее поминают. Под самый почти конец монастырщины в доме том проживал посельский старец честный отец Варлаам. Распаляем бесами, искони века сего прю со иноки ведущими и на мирские сласти их подвигающими, старец сей, предоставляя приказчикам и доводчикам на крестьянских свадьбах взимать убрусные алтыны, выводные куницы и хлебы с калачами, иные пошлины с баб и с девок сбирал, за что в пятнадцать лет правления в два раза по жалобным челобитьям крестьян получал от троицкого архимандрита с братиею памяти[371] с душеполезным увещанием, о еже бы сократил страсти своя и провождал жизнь в трудах, в посте и молитве и никакого бы дурна на соблазн православных чинить не отваживался…
Сохранился у миршенцев на памяти «пожар Нифонтов», когда на самую Троицу все село без остатку сгорело. Схмень[372] стояла, трава даже вся пригорела, и в такое-то время, в самый полдень поднялась прежестокая буря, такая, что дубы с корневищем из земли выдирала. А тут, спасенным делом обедню да лежачую на листу вечерню[373] отпевши, посельский старец Нифонт с дорогими гостями, что наехали из властного монастыря, — соборным старцем Дионисием Поскочиным, значит барского рода[374], да с двумя рядовыми старцами, да с тиуном, да с приказчиком и с иными людьми, — за трапезой великий праздник пятидесятницы справляли да грешным делом до того натянулись, что хоть выжми их. Во хмелю меж ними свара пошла, посельский с соборным старцем драку учинили — рожи друг у друга рвали, брады исторгали, за честные власы и в келарне и в поварне по полу друг дружку возили. Все было как следует быть по монастырскому обычаю. Гости от хозяев не отставали, и они одни пошли на других, и сталась боевая свалка и многое политие крови. В такое шумное время, богу попущающу, паче же врагу действующу, возгореся Нифонтова поварня и от огненного прещения во всей Миршени ни кола, ни двора не осталось. Преподобный же отец Нифонт, спасая от пламени туго набитую кубышку, огненною смертию живот свой скончал. Оттого тот пожар «Нифонтовым» и до наших дней зовется.
Ознакомительная версия.