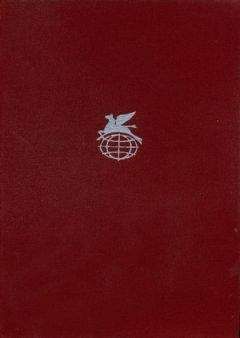Никифорыч принёс бутылку водки, варенья, хлеба. Сели пить чай. Марина, сидя рядом со мною, подчёркнуто ласково угощала меня, заглядывая в лицо моё здоровым глазом, а супруг её внушал мне:
— Незримая эта нить — в сердцах, в костях, ну-ко — вытрави, выдери её? Царь — народу — бог!
И неожиданно спросил:
— Ты вот начитан в книгах, евангелие читал? Ну, как, по-твоему, всё верно там?
— Не знаю.
— По-моему — приписано лишнее. И — не мало. Например — насчёт нищих: блаженны нищие, — чем же это блаженны они? Зря немножко сказано. И вообще, насчёт бедных — много непонятного. Надо различать: бедного от обедневшего. Беден — значит — плох! А кто обеднел — он несчастлив, может быть. Так надо рассуждать. Это — лучше.
— Почему?
Он, пытливо глядя на меня, помолчал, а потом заговорил отчётливо и веско, видимо — очень продуманные мысли.
— Жалости много в евангелии, а жалость — вещь вредная. Так я думаю. Жалость требует громадных расходов на ненужных и вредных даже людей. Богадельни, тюрьмы, сумасшедшие дома. Помогать надо людям крепким, здоровым, чтоб они зря силу не тратили. А мы помогаем слабым, — слабого разве сделаешь сильным? От этой канители крепкие слабеют, а слабые — на шее у них сидят. Вот чем заняться надо — этим! Передумать надо многое. Надо понять — жизнь давно отвернулась от евангелия, у неё — свой ход. Вот, видишь — из чего Плетнёв пропал? Из-за жалости. Нищим подаём, а студенты пропадают. Где здесь разум, а?
Впервые слышал я эти мысли в такой резкой форме, хотя и раньше сталкивался с ними, — они более живучи и шире распространены, чем принято думать. Лет через семь, читая о Ницше, я очень ярко вспомнил философию казанского городового. Скажу кстати: редко встречались мне в книгах мысли, которых я не слышал раньше, в жизни.
А старый «ловец человеков» всё говорил, постукивая в такт словам пальцами по краю подноса. Сухое лицо его строго нахмурилось, но смотрел он не на меня, а в медное зеркало ярко вычищенного самовара.
— Идти пора тебе, — дважды напоминала ему жена, — он не отвечал ей, нанизывал слово за словом на стержень своей мысли, и — вдруг она, неуловимо для меня, потекла по новому пути.
— Ты — парень неглупый, грамотен, разве пристало тебе булочником быть? Ты мог бы не меньше деньги заработать и другой службой государеву царству…
Слушая его, я думал, как предупредить незнакомых людей на Рыбнорядской улице о том, что Никифорыч следит за ними? Там, в номерах, жил недавно возвратившийся из ссылки, из Ялуторовска, Сергей Сомов, человек, о котором мне рассказывали много интересного.
— Умные люди должны жить кучей, как, примерно, пчёлы в улье или осы в гнёздах. Государево царство…
— Гляди — девять часов, — сказала женщина.
— Чорт!
Никифорыч встал, застёгивая мундир.
— Ну, ничего, на извозчике поеду. Прощай, брат! Заходи, не стесняйся…
Уходя из будки, я твёрдо сказал себе, что уже никогда больше не приду в «гости» к Никифорычу, — отталкивал меня старик, хотя и был интересен. Его слова о вреде жалости очень взволновали и крепко въелись мне в память. Я чувствовал в них какую-то правду, но было досадно, что источник её — полицейский.
Споры на эту тему были нередки, один из них особенно жестоко взволновал меня.
В городе явился «толстовец», — первый, которого я встретил, — высокий, жилистый человек, смуглолицый, с чёрной бородой козла и толстыми губами негра. Сутулясь, он смотрел в землю, но, порою, резким движением вскидывал лысоватую голову и обжигал страстным блеском тёмных, влажных глаз, — что-то ненавидящее горело в его остром взгляде. Беседовали в квартире одного из профессоров, было много молодёжи и между нею — тоненький, изящный попик, магистр богословия, в чёрной шёлковой рясе; она очень выгодно оттеняла его бледное красивое лицо, освещённое сухонькой улыбкой серых, холодных глаз.
Толстовец долго говорил о вечной непоколебимости великих истин евангелия; голос у него был глуховатый, фразы коротки, но слова звучали резко, в них чувствовалась сила искренней веры, он сопровождал их однообразным, как бы подсекающим жестом волосатой левой руки, а правую держал в кармане.
— Актёр, — шептали в углу рядом со мною.
— Очень театрален, да…
А я незадолго перед этим прочитал книгу — кажется, Дрепера — о борьбе католицизма против науки, и мне казалось, что это говорит один из тех яростно верующих во спасение мира силою любви, которые готовы, из милосердия к людям, резать их и жечь на кострах.
Он был одет в белую рубаху с широкими рукавами и какой-то серенький, старый халатик поверх её, — это тоже отделяло его от всех. В конце проповеди своей он вскричал:
— Итак — со Христом вы или с Дарвином?
Он бросил этот вопрос, точно камень, в угол, где тесно сидела молодёжь и откуда на него со страхом и восторгом смотрели глаза юношей и девушек. Речь его, видимо, очень поразила всех, люди молчали, задумчиво опустив головы. Он обвёл всех горящим взглядом и строго добавил:
— Только фарисеи могут пытаться соединить эти два непримиримых начала и, соединяя их, постыдно лгут сами себе, развращают ложью людей…
Встал попик, аккуратно откинул рукава рясы и заговорил плавно, с ядовитой вежливостью и снисходительной усмешкой:
— Вы, очевидно, придерживаетесь вульгарного мнения о фарисеях, оно же суть не токмо грубо, но и насквозь ошибочно…
К великому изумлению моему, он стал доказывать, что фарисеи были подлинными и честными хранителями заветов иудейского народа и что народ всегда шёл с ними против его врагов.
— Читайте, например, Иосифа Флавия…
Вскочив на ноги и подсекая Флавия широким, уничтожающим жестом, толстовец закричал:
— Народы и ныне идут с врагами своими против друзей, народы не по своей воле идут. их гонят, насилуют. Что мне ваш Флавий?
Попик и другие разодрали основную тему спора на мельчайшие частицы, и она исчезла.
— Истина — это любовь, — восклицал толстовец, а глаза его сверкали ненавистью и презрением.
Я чувствовал себя опьянённым словами, не улавливал мысли в них, земля подо мною качалась в словесном вихре, и часто я с отчаянием думал, что нет на земле человека глупее и бездарнее меня.
А толстовец, отирая пот с багрового лица, свирепо закричал:
— Выбросьте евангелие, забудьте о нём, чтоб не лгать! Распните Христа вторично, это — честнее!
Предо мною стеной встал вопрос: как же? Если жизнь — непрерывная борьба за счастье на земле, — милосердие и любовь должны только мешать успеху борьбы?
Я узнал фамилию толстовца — Клопский, узнал, где он живёт, и на другой день вечером явился к нему. Жил он в доме двух девушек-помещиц, с ними он и сидел в саду за столом, в тени огромной старой липы. Одетый в белые штаны и такую же рубаху, расстёгнутую на тёмной волосатой груди, длинный, угловатый, сухой, — он очень хорошо отвечал моему представлению о бездомном апостоле, проповеднике истины.
Он черпал серебряною ложкой из тарелки малину с молоком, вкусно глотал, чмокал толстыми губами и, после каждого глотка, сдувал белые капельки с редких усов кота. Прислуживая ему, одна девушка стояла у стола, другая — прислонилась к стволу липы, сложив руки на груди, мечтательно глядя в пыльное, жаркое небо. Обе они были одеты в лёгкие платья сиреневого цвета и почти неразличимо похожи одна на другую.
Он говорил со мною ласково и охотно о творческой силе любви, о том, что надо развивать в своей душе это чувство, единственно способное «связать человека с духом мира» — с любовью, распылённой повсюду в жизни.
— Только этим можно связать человека! Не любя — невозможно понять жизнь. Те же, которые говорят: закон жизни — борьба, это — слепые души, обречённые на гибель. Огонь непобедим огнём, так и зло непобедимо силою зла!
Но когда девушки ушли, обняв друг друга, в глубину сада, к дому, человек этот, глядя вслед им прищуренными глазами, спросил:
— А ты — кто?
И, выслушав меня, начал, постукивая пальцами по столу, говорить о том, что человек — везде человек и нужно стремиться не к перемене места в жизни, а к воспитанию духа в любви к людям.
— Чем ниже стоит человек, тем ближе он к настоящей правде жизни, к её святой мудрости…
Я несколько усомнился в его знакомстве с этой «святой мудростью», но промолчал, чувствуя, что ему скучно со мной; он посмотрел на меня отталкивающим взглядом, зевнул, закинул руки за шею себе, вытянул ноги и, устало прикрыв глаза, пробормотал, как бы сквозь дрёму:
— Покорность любви… закон жизни…
Вздрогнув, взмахнул руками, хватаясь за что-то в воздухе, уставился на меня испуганно:
— Что? Устал я, прости!
Снова закрыл глаза и, как от боли, крепко сжал зубы, обнажив их; нижняя губа его опустилась, верхняя — приподнялась, и синеватые волосы редких усов ощетинились.
Я ушёл с неприязненным чувством к нему и смутным сомнением в его искренности.