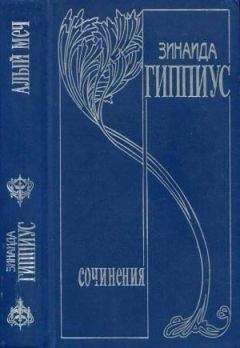– Ольга Ивановна приехала, – сказала кухарка, приотворив дверь.
Иван Иванович, еще весь дрожа от негодования, обернулся.
– Скажите, сейчас, сейчас, сейчас! Иду!
Он стал метаться, отыскивая шапку. Черт продолжал ловить его руки.
– Ох, утешитель вы мой! Ну, бросьте же сердиться на меня. Будьте ко мне справедливы. Поверьте, поймите, ведь нарочно я! Ведь вы усталый были, в сомнении, а чем же дух-то поднять, как не картиночкой этакой отталкивающей? Ведь вот небось, сомнений-то у вас сейчас нет? Как не бывало? Вранье это мое, никогда я вас таким во сне не видал! Разве я вас не знаю? Навру, думаю, про этакое-такое, через отталкиванье-то правда в сердечке благородном и воссияет. Нарочно вам все такое безнравственное подпустил, – самому было противно, честное слово. Не верите? А напрасно, мы честные-пречестные, нам нравственность дороже глаза, нам нельзя иначе, уж очень мы человеческий род жалеем. Ну, пострадал я, выдумывая вам пакости, а уж зато утешен-то как! Вон вы как загорелись. Теперь не устанете. Теперь полетите, как на крылышках…
Иван Иванович уже слушал, не вслушиваясь, рассеянно. Вспышка его почти прошла, ну, наврал черт – тем лучше. Черт его больше не интересовал. Он торопился и только хотел теперь по дороге припомнить речь, которая ему еще вчера приходила на ум и которую он думал сказать, если пойдет вечером «туда». Теперь никакого «если» больше не существовало, надо было только припомнить речь. Он чувствовал, что она будет огненная.
– Да… да… Отлично. Я верю. Не плетите мне вздора вперед. Чего там «зажегся». Это я нарочно про сомнения. Какие могли быть сомнения? Подлецом отвлеченным я никогда не был. Если я, в минуту чисто физической усталости, поддался вашим приставаньям и слушал вас – то это еще ничего не доказывает… Вот с вашей стороны, плести какую-то чепуху декадентскую и притом имморальную – действительно…
– Ну, простите, простите… – кланялся черт, бегая по комнате за Иваном Ивановичем, который, найдя шапку, поспешно собирал и совал по карманам какие-то бумажки.
– Простите, погорячились, и довольно. Неужели я не знал, что вас эти миндали небесные с кострами и морями никогда не соблазнят? Что никакой самый малюсенький, самый утаенный уголок души у вас этим всем и не был заражен? Не дурак же я, чтобы вас у костра мечтателем видеть! Есть такие, ей-Богу, есть, экономику даже хотят противоестественным путем посредством костров да любвей устраивать… Не верите? Честью клянусь! Принадлежат идейно к фракции буржуазных индивидуалистов. Тоже своя «партия» – небесно-миндальная. К счастью – совершенно безвредная. Уж, конечно, не такую «партию» подразумевал Солон, когда сказал: «Бесчестным считается тот, кто остается вне партий».
– Да, да… Солон… – перебил Иван Иванович, который вдруг вспомнил, что именно Солона-то он и хотел упомянуть в своей речи. – Вне партий… не примыкает к партии… во времена общественной борьбы. Да, да… Всякое проявление индивидуальной, личной жизни – в такое время бесчестно… А борьба должна быть непрерывной… Да, да… Только окончательная социализация… Солидаризация… впрочем – это относится к области идеологии. Как один из минимумов я хотел выставить… Но посмотрим, посмотрим. Я иду. Прощайте.
– Я тоже иду, тоже иду, – заторопился черт. – Я ведь тоже туда… Куда вы. Я ведь там теперь постоянно бываю. Вы услышите, я и говорю часто. Вы свое скажете (чудесно скажете сегодня, уже я знаю) – а после я буду говорить. Вы сейчас и узнаете меня. Я ваше положение непременно поддержу… Я…
Иван Иванович пошел к двери, черт за ним, не переставая пожиматься и болтать.
– Я вчера так кричал, что охрип, честное слово! Люблю я эти дебаты. Иногда необходимо спокойствие и властность – иногда огонь и жар. Смотря по требованию реальности. Реализм – это все, дорогой мой; тут мы с вами не разойдемся.
– Опять вы заврались, – пренебрежительно сказал Иван Иванович. – Не верю я, чтоб вы туда ходили, куда я теперь еду. Ведь вы больше о tete a tete'ax печетесь…
– Нет, нет, теперь я партийки, партийки… Вселенскую бы такую партийку… Чтоб выдержала вселенскость… Понимаете? Чтоб уж для всех… Огулом уж тогда, всех сразу к торжеству правды подвинуть. Да здравствует борьба за правду и право! А в борьбе уже не до мечтаний… Не до любвей…
– Да, да… – рассеянно и весело сказал Иван Иванович, надевая галоши. – Не до любвей. Где Ольга Ивановна? На извозчике дожидается? Хорошо, хорошо, иду. И черт вас знает, когда вы правду говорите, когда врете. Иной раз и дельное сморозите. Ну, да мне наплевать. Я свое и без ваг знаю.
Иван Иванович через ступеньку бежал вниз по холодной лестнице. Черт, в худеньком пальтишке и шапке гречником, семенил за ним и все еще болтал.
– Это верно, смешиваю я, смешиваю, для правды же, однако, смешиваю, дорогой мой… Мыслящему человеку различить нетрудно, что к чему. Вот вы, в сущности, всегда знаете. Сейчас поняли, что, когда правда общественной борьбы вступает в свои права, не до любвей. Пролетаризация – так пролетаризация, а не люмпенпролетаризация, и не до индивидуализации там, где назревает последняя социализация и солидаризация! Где насилию противопоставляется сила – там не до любви! Не до любви!
– Не до любви! – повторил Иван Иванович с рассеянным хохотком, и, выходя на двор и за ворота, даже запел про себя, как-то невольно, вдруг вспомнив старую песню:
Нет, нет, любовь не даст свободы,
И нет спасения в любви.
Ты, ненависть, суди народы.
Ты, ненависть, оковы разорви.
Черт подхватил:
Мы взяли в руки меч:
Пока они не сгнили…
Но у черта оказался неприятный фальцет, к тому же они вышли на улицу и петь больше было нельзя. Иван Иванович ринулся к извозчику, на котором сидела Ольга Ивановна.
– Так до свиданья, до скорого свиданья, – весело и любезно кричал черт, махая шляпой. – Я тут неподалечку на одну минуточку заверну – и сейчас же вслед за вами. До свиданья, до свиданья!
Колеса загрохотали, и черт остался один у фонаря. Задумался как будто. Два оборванца вынырнули из темноты, подошли к черту, хотели, кажется, заговорить. Но, взглянув ему в лицо – вдруг оба плюнули и, заворчав, как испуганные псы, шарахнулись назад, во мрак. Черт не обратил на них ни малейшего внимания: это, вероятно, были люди не по его специальности.
1905
Собрание стихов. Книга вторая
1903–1909*
Сергею Платоновичу Каблукову
Люблю тебя, Петра творенье…
Твой остов прям, твой облик жёсток,
Шершавопыльный – сер гранит,
И каждый зыбкий перекресток
Тупым предательством дрожит.
Твое холодное кипенье
Страшней бездвижности пустынь.
Твое дыханье – смерть и тленье,
А воды – горькая полынь.
Как уголь, дни, – а ночи белы,
Из скверов тянет трупной мглой.
И свод небесный, остеклелый
Пронзен заречною иглой.
Бывает: водный ход обратен,
Вздыбясь, идет река назад…
Река не смоет рыжих пятен
С береговых своих громад,
Те пятна, ржавые, вскипели,
Их ни забыть, – ни затоптать…
Горит, горит на темном теле
Неугасимая печать!
Как прежде, вьется змей твой медный,
Над змеем стынет медный конь…
И не сожрет тебя победный
Всеочищающий огонь, –
Нет! Ты утонешь в тине черной,
Проклятый город, Божий враг,
И червь болотный, червь упорный
Изъест твой каменный костяк.
1909
СПБ
Ты пойми, – мы ни там, ни тут.
Дело наше такое, – бездомное.
Петухи поют, поют…
Но лицо небес еще темное.
На деревья гляди, – на верхи.
Не колеблет их близость рассветная…
Всё поют, поют петухи, –
Но земля молчит, неответная…
1906
Париж
Над темностью лампады незажженной
Я увидал сияющий отсвет.
Последним обнаженьем обнаженной
Моей душе – пределов больше нет.
Желанья были мне всего дороже…
Но их, себя, святую боль мою,
Молитвы, упованья, – всё, о Боже,
В Твою Любовь с любовью отдаю.
И этот час бездонного смиренья
Крылатым пламенем облек меня.
Я властен властью – Твоего веленья,
Одет покровом – Твоего огня.
Я к близкому протягиваю руки,
Тебе, Живому, я смотрю в Лицо,
И, в светлости преображенной муки,
Мне легок крест, как брачное кольцо.
1905