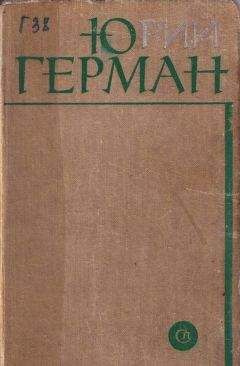Может быть, не стоит вам рисковать, почтеннейшая кодла, жизнью товарища Жмакина? Потому что в миллионы в валюте, в самой устойчивой в мире валюте обойдется вам жизнь некоего Жмакина. За Алексеем Жмакиным товарищ Лапшин, а за товарищем Лапшиным железный закон. Он представитель диктатуры, и с ним армия, с ним флот, с ним авиация, а не с вами, проклятая кодла!
- Кодла! - выговаривает он, кривя лицо. - Вонючая кодла, все равно вам хана и амба, все равно передавим мы вас до единого...
Он поражает их тем, что ругается, они не верят своим ушам и не понимают - может быть, он сошел с ума? Они убили бы его сразу, если бы он повалился на колени, но руганью он выигрывает время и готовит намокший, облепленный грязью сапог для удара. Он ударит этого, у которого наган. Наган у них, наверное, один. А без револьвера он на них плевал!
Только бы шинель не спружинила! Пожалуйста, не спружинь, шинель! Сделай одолжение, цыпочка, не спружинь! Спружинишь - меня убьют, войди в положение, шинель!
Попробуем же, Жмакин, в последний раз!
Попробуем, авось не умрем!
Не надо умирать, дорогой Жмакин, жить надо!
Жизнь тебе открыта, так живи же, не сдавайся!
И, отбросив сначала для разгона ногу назад, он со страшной силой бьет милиционера сапогом в низ живота. Бьет и бежит от своей могилы, от смерти, петляет, падает лицом в мокрую землю и опять бежит, опять падает и вновь бежит во тьму, к дороге, к шоссе; сзади выстрел, другой, - на, возьми Жмакина, на, попробуй, почем стоит, на, убей, коли можешь, на, возьми, выкуси!
Сырой ветер шумит в поле, гудят провода, столбы, значит - шоссе, надо бежать по шоссе, и он бежит, задыхаясь, вперед, туда, где мерцают какие-то огни, где что-то такое показывается и вновь исчезает, какое-то ослепительное сияние, ах, это машина... И не одна машина, там их много!
Он останавливается, машет руками, танцует, кричит. Его лицо в крови, одежда на нем разорвана, - поймите, он убежал от смерти.
С воем тормозит грузовик. Грузовик полон красноармейцев. И начальник с кубиком, с бритым мокрым лицом вылезает из кабины.
- Товарищ начальник, - говорит Жмакин, - поймите.
Тело его содрогается.
- Дело в том... - продолжает он.
И дышит - не может надышаться. И глядит - зеленые фуражки пограничники - не может наглядеться. Вот она - диктатура! Вот он - железный закон! И еще машина. И еще командиры. В плащах и в кожаных регланах. Это для него. Это за него. Это ради него.
Боец-пограничник вытирает чем-то лицо Жмакина.
- Ничего! - говорит Алексей. - Я в порядке.
Отрывистые слова команд доносятся до него. Машины ровно дрожат - моторы не выключены. Целая война сделалась за него - за Жмакина? Чем же ты отплатишь, Алеха, за это кошмарное беспокойство, за бензин, за человеко-часы, за подъем войск по тревоге? Чем и когда?
- Я пойду! - говорит Алексей. - Я помогу! Я - ничего, могу!
И опять он шагает по полю. Рядом с ним командир в реглане. Чуть впереди - другой, маленький, в зеленой фуражке. А сзади цепь, и слева, наверное, цепь, и справа тоже цепь! Кончает кодлу советская власть!
- Один из них белый каратель, - говорит Алексей. - Сука! Вешатель! Я знаю. Они хотели большую банду делать, и со связью за буржуазные рубежи...
Споткнувшись, он замолкает.
Тихо. Только хлюпают по грязи сапоги бойцов.
- Я - извиняюсь! - неслышно говорит Жмакин. - Вы не беспокойтесь за меня. Я немножко посижу на земле. Вы - извините.
Ему кажется, что он сказал очень громко. Но он сказал так тихо, что его никто не услышал.
Цепь двигается дальше.
А Жмакин прилег и лежит. Он имеет право чуток отдохнуть. Его не продал Лапшин. Армия вступилась за него. Много машин пришло ему на выручку. Все ж таки бензин. Привязался к нему этот бензин! А кто такой Жмакин! Хотя бы был известный шахматист - гроссмейстер или мастер. Или лауреат конкурса? Или как минимум - знаменитая доярка? Или - стахановец! А он всего-навсего Жмакин...
Жмакин!
Большой колокол вдруг заныл над ним. И тотчас же "всего-навсего Жмакин" потерял сознание.
На шоссе Кадников беспокойно задергал поводок сирены.
- Ладно, подождешь! - сказал Лапшин.
Он светил фонариком и сосал потухшую папиросу. Уже светало, но едва-едва, скорее рыжело, чем светало.
- Возле березки он прилег - я помню, - сказал пограничник в реглане.
- Тут березок не одна, - проворчал Лапшин.
- Прямо компот, - сказал Василий, - я никаких следов на вижу.
- Ты Жмакина ищи, а не следы, - рассердился Иван Михайлович: - Пин... Пиркентон. Лупу возьми!
Они опять разошлись. Было видно, как одна за другой уходят по шоссе машины пограничников...
- Алеха! - позвал Иван Михайлович.
- Здесь! - откликнулся Жмакин.
Алексей сидел боком в грязи, лицо его было залеплено грязью и кровью. Пока Лапшин считал ему пульс, Окошкин с пограничником сигналили фонариками на шоссе, чтобы шли люди.
- Какой детский крик на лужайке, - сказал Жмакин. - Прямо тарарам!
- Голову тебе разбили? - спросил Лапшин.
- Не, я пробовал, дырки нет, - сплевывая, сказал Алексей. - Шишка есть, а так ничего. Переутомился немножко. Повязали кодлу?
- Увезли всех! - радостно сообщил Окошкин. - Давай поднимайся, Леша!
С трудом Жмакин встал. Василий, при свете фонаря, принялся его чистить. Потом медленно они пошли к машине. Кадников предупредительно распахнул дверцу и сказал:
- Это надо же - на одного человека столько неприятностей.
Пограничник в реглане попрощался с Лапшиным и пошел к своей "эмке". Несколько бойцов стояли на обочине, курили. Жмакин отвел от них глаза - ему было неловко.
- Вроде утро? - спросил он у Лапшина.
- Утро.
- Стрелял Корнюхин братишка?
- До последнего, - угрюмо ответил Лапшин.
- Живой?
- Частично, - сказал Иван Михайлович. - Вряд ли выживет.
- А наши? Все в порядке?
- Обошлось.
Уже совсем рассвело, когда приехали в Управление. Окошкин взял Жмакина под руку с одной стороны, Кадников - с другой. Лапшин внизу звонил по телефону в санчасть, чтобы к нему в кабинет зашел дежурный врач.
Уборщицы с подоткнутыми подолами мыли каменные лестницы, те самые, по которым столько раз Жмакина водили арестованным. Было пусто, со ступенек текла вода, пахло казенным зданием, дезинфекцией; наверху толстая уборщица пела:
Телеграмма, ах, телеграмма...
- Ты отдохни, товарищ Жмакин, - сказал Окошкин, - не торопись.
- Спешить некуда, - подтвердил Кадников.
Ты лети, лети, лети, ах, телеграмма,
пела уборщица.
Вахтер козырнул Окошкину. Они всё еще подымались. На лестничной площадке был красиво убранный щит с государственным гербом Союза, с красными знаменами. Сколько раз Жмакин видел этот щит!
- Да, - сказал он, - побывал я здесь. Сколько раз меня приводили.
- Нечего вспоминать, - сказал Окошкин. - Что было, то прошло и быльем поросло.
- Это верно, - сказал Кадников.
Сонный дежурный по бригаде принес Окошкину ключ от кабинета Лапшина. Василий отворил дверь и притащил Жмакину переодеться свой старый костюм. Кадников доставил в миске воды, полотенце и мыло.
- Умоетесь? - спросил он.
Было тихо, очень тихо. Жмакин долго мыл руки, потом лицо. Окошкин и шофер смотрели на него с состраданием. В лице Жмакина было что-то такое, что пугало их. Казалось, он каждую секунду мог зарыдать. Губы у него дрожали, и в глазах было жалкое выражение. Несколько раз подряд он судорожно вздохнул.
- Ничего, ничего, - сказал Окошкин, - ты теперь полежи.
Хлопнула дверь, пришли Лапшин и врач. Лапшин отворил окно. Сырой утренний ветер зашелестел бумагой на столе, одна бумажка сорвалась и, гонимая сквознячком, помчалась к двери.
Окошкин ловко поймал ее коленями.
- Вот так, - сказал врач, поворачивая голову Жмакину.
Лапшин сел за свой стол и задумался. Лицо его постарело, углы крепкого рта опустились. Окошкин с беспокойством на него посмотрел. Он перехватил его взгляд и тихо сказал:
- Поспать надо, товарищ Окошкин, верно?
- Ничего особенного, - сказал врач, - у него главным образом нервное. Я ему укрепляющее пропишу.
Лапшин пустил врача за свой стол, врач выписал рецепт и ушел. Ушел и Кадников. Над прекрасной площадью, над дворцом, над Невой проглядывало солнце. Еще пузырились лужи, еще ветер пригнал легкую дождевую тучку и мгновенно обрызгал площадь, но непогода кончилась, день наступал хоть холодный, зато ясный и солнечный.
Лапшин негромко спросил по телефону:
- Не спишь?
Жмакин слушал, навострив уши: значит, правда, что Иван Михайлович женился. Удивительно - пожилой человек, а тоже.
- Все в порядке, - опять сказал Лапшин. И добавил: - Да, скоро.
Алексей зевнул, делая вид, что не интересуется беседой.
- В духовке? - осведомился Иван Михайлович.
И, перехватив взгляд Жмакина, немножко сконфузился.
Потом они оба покурили и помолчали.
- Мне бы паспорт, - вздохнул Жмакин. - Тоже пора, между прочим, в загс пойти.