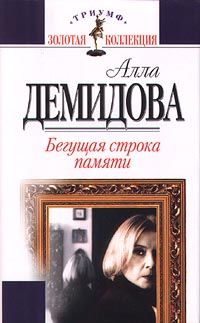Мы — несколько «старейшин» студии (помню Зорю Филера, он потом был актером «Современника», Абрама Лившица — профессора математики, Севу Шестакова — тоже профессора, который сыграл потом в «Такой любви» Человека в мантии, он практически руководил всем студенческим театром) пошли в ТЮЗ. Я первый раз попала за кулисы. Было очень интересно, какие-то особые запахи. Шел спектакль «Айболит», по которому впоследствии Быков сделал фильм «Айболит-66».
К нам вышел маленький худенький человек в костюме и гриме Бармалея. Когда мы предложили ему руководить Студенческим театром МГУ, он испугался: «Я? Университетским театром?! Да я не смогу!..» Но мы его уговорили.
Тогда же в «Новом мире» напечатали пьесу Павла Когоута «Такая любовь». Для того времени пьеса была странная, непривычная, с повтором сцен — одни и те же эпизоды проигрывались в сознании разных персонажей. Мы взяли эту пьесу.
Как всегда бывает в театре при счастливом стечении обстоятельств, «Такая любовь» стала коллективным творчеством. В ход пошло все: и знания «старейшин» — в университетском театре играли и преподаватели, и профессора, — и молодая энергия Ролана Быкова. Главную роль сыграла Ия Савина, я — жену главного героя. «Такая любовь» стала событием. Это был второй спектакль (после «Современника»), на который пошла «вся Москва».
После этого успеха Быкова сразу же пригласили в Ленинград, сниматься в роли Башмачкина в «Шинели». Там же ему предложили руководить театром, и он оставил нашу студию. Так на самом взлете, уже вкусив хорошую публику, мы опять оказались без руководителя. Пошли какие-то традиционные постановки, например, режиссер Калиновский сделал спектакль «Здравствуй, Катя!» — обычный спектакль по советской пьесе. Мы поехали с ним на целину, целый месяц катали его по степям, иногда играли на сдвоенных грузовиках.
Тем не менее оставаться без руководителя театру было нельзя, и тогда его возглавил Сергей Юткевич. После мобильной, интересной, демократичной работы с Быковым, когда в одном спектакле человек играл, а на другом был осветителем (я, например, была и актрисой, и реквизитором), представления Юткевича о театральной иерархии показались нам устаревшими. Нам хотелось сохранить студийность, но, к сожалению, в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Наш театр раскололся, и мы организовали просмотр для набора в студию при Театре Ленинского комсомола. Колеватову — директору «Ленкома» понравилась идея создания двухгодичной студии, которая пополняла бы актерский состав. По всей Москве были расклеены объявления о наборе.
После первого фестиваля (лето 57-го года) повеяло каким-то новым ветром, и идея студийности, само слово «студия» привлекали больше, чем обычное театральное училище. Шел бесконечный поток молодых людей. Помню Зину Славину — она тоже поступала к нам в студию, ее не приняли, но потом мы с ней встретились на курсе Орочко в Щукинском училище.
Наконец студию набрали и начались занятия. Я была кем-то вроде зав. репертуарной частью — вывешивала расписание занятий, созванивалась с педагогами, следила за посещением (хотя смысла в этом не было — ходили все охотно).
На открытие студии опять пришла «вся Москва». Помню молодого Евтушенко, у меня сохранилось фото — Ширвиндт со студийками... Руководили студией Михаил Шатров и Владимир Ворошилов, режиссером был Оскар Ремез, он очень интересно работал, с новым театральным мышлением (как потом сложилась его судьба — не знаю).
Через год меня уволили из студии с формулировкой «за профнепригодность». Дело в том, что весь этот год я продолжала бегать в Студенческий театр МГУ, играть там всякую дребедень, быть реквизитором. Видимо, эта моя раздвоенность и самостоятельность раздражали. Возник конфликт, сути которого я сейчас уже не помню. Но с Шатровым я потом много лет не здоровалась — делала вид, что не замечаю. Когда снималась в «Шестом июля» — фильме по его сценарию — переписала по-своему речь Спиридоновой на съезде. Он ничего не сказал, а роль от этого стала только лучше. Больше ни с Шатровым, ни с Ворошиловым судьба меня не сталкивала.
И вот меня уволили за профнепригодность. Я сидела у памятника Пушкину и ревела. Мимо шла моя приятельница: «Дура, что реветь, пошли в училище!» Она взяла меня за руку и привела в Щукинское училище. Меня приняли, но условно из-за дикции (дикция так и осталась с «шипящими», хоть я и работала с логопедом). Так я попала на курс, который набирала Анна Алексеевна Орочко. На нашем курсе было много взрослых людей, с высшим образованием, а одним из дипломных спектаклей стал «Добрый человек из Сезуана», который поставил Юрий Любимов. И вот с этого «Доброго человека...» начался Театр на Таганке, в котором я проработала тридцать лет...
На первом курсе Щукинского училища я участвовала в спектакле Вахтанговского театра «Гибель богов». Нас было трое — Даша Пешкова (внучка Горького), одна пухленькая четверокурсница, фамилии которой я не помню, и я. Мы должны были танцевать в купальничках, изображая girls. Ставила танец очень известная в 30-е годы балетмейстер, и она сделала такую американскую стилизацию степа.
Каждый день на репетицию приходил Рубен Николаевич Симонов постановщик спектакля, и начинал репетицию с этого танца в купальниках. И каждый раз он говорил: «Аллочка, по вас Париж плачет!» — эта фраза стала рефреном.
Уже потом, после «Гибели богов», я поняла, что он меня выделяет. Но тогда все это казалось абсолютно естественным — и то, что мы репетировали в его кабинете в купальничках, и то, что он приглашал меня домой, читал стихи, рассказывал о своей жене, показывал ее портрет, читая блоковское «...Твое лицо в его простой оправе...». Читал он очень хорошо, с барственной напевностью. Иногда он приглашал меня в театры. Обычно я заходила за ним, и мы шли вместе на какой-нибудь спектакль. Один раз пришла, позвонила. Вышел Евгений Рубенович, его сын, и сказал: «Рубен Николаевич болен, он в театр не пойдет. Вы, Алла, можете пригласить кого-нибудь другого», — и отдал мне два билета...
Поскольку Рубен Николаевич хорошо ко мне относился, я была занята еще в «Принцессе Турандот» (одна из рабынь) и в танцевальных сценах «Стряпухи». И после училища, конечно, очень хотела поступить в Вахтанговский театр. Я настолько этого хотела и настолько была уверена в своих силах, что у меня не было специального отрывка для показа. У меня был спектакль «Скандальное происшествие мистера Кеттла с мисс Мун», его поставил Шлезингер, я играла мисс Мун. У меня была главная роль в «Далеком» Афиногенова, спектакль поставила Орочко. В «Добром человеке...» я была назначена на главную роль, но Любимов захотел работать со Славиной — он с ней до этого делал сцены из «Укрощения строптивой». Но на просмотре в театре надо было сыграть какой-нибудь яркий отрывок, причем не перед Рубеном Николаевичем а перед худсоветом. У всех были хорошие отрывки, а у меня — какая-то муть. И меня не взяли...
К 4-му курсу Рубен Николаевич ко мне, видимо, поохладел. Ведь если бы он очень захотел, он бы худсовет уговорил, -я не прошла из-за одного голоса. Для меня это была трагедия. Я так же плакала, так же не знала, что делать, как когда меня исключили из студии при «Ленкоме»...
Интуитивно я чувствовала, что «Таганка» и Любимов — не для меня. И «Доброго человека...» они репетировали практически без меня, я вошла в последнюю очередь, когда некому было играть маленькую роль — мать летчика. И я хорошо понимала, что я там «сбоку припека», хотя на «Таганку» Любимов меня брал.
Те, кого он не взял, показывались в разные театры. Когда я подыгрывала Виктору Речману на показе в Театре им. Маяковского, Охлопков спросил его: «А что еще у вас есть?» — Речман сказал, что у него есть Лаэрт.
— А кто Гамлет?
— Вот, Алла Демидова, которая подыгрывала мне в Радзинском...
Так и закрутилась эта история, когда Охлопков мне предложил Гамлета. Он дал мне несколько вводных разговорных репетиций, которые я тогда совершенно не ценила. Потом я репетировала с одним из режиссеров спектакля — Кашкиным, который, видимо, был против этой идеи и сразу же сказал: «Ох, челочка как у Бабановой... Все подражаете...» Я провела там месяц и блудной овечкой вернулась на «Таганку».
А в Театр Вахтангова с нашего курса взяли только Алешу Кузнецова. Он был моим партнером, играл мистера Кеттла. Он был самый талантливый у нас на курсе, у него был талант направления Михаила Чехова, он мог играть совершенно разные роли. Рисунок водоноса в «Добром...» — это рисунок Алеши Кузнецова. И лучше него никто эту роль не сыграл. Золотухин тоже делал эту униженную пластику, но он стилизовал, а Кузнецов был настоящий... Но в Театре Вахтангова он потерялся. Думаю, так случилось бы и со мной — в театре обязательно нужно, чтобы вначале тебя кто-то «повел» — дал главную роль в заметном для критики спектакле
Французский в Училище преподавала Ада Владимировна Брискиндова. Мы, конечно, никогда ничего не учили, но ее манеры, ее поведение, ее привычка доставать сигарету, разминать, что-то в это время рассказывая, потом вынимать из сумки и ставить на стол маленькую пепельницу — этот ритуал закуривания казался мне верхом аристократизма. Мне хотелось это сыграть. Поэтому в кино я все время пыталась закуривать как Ада Владимировна. И думаю, что мне это ни разу по-настоящему не удалось.