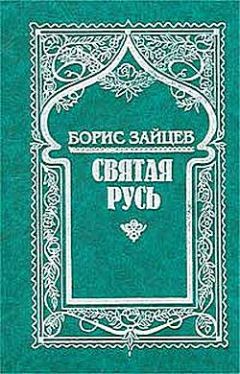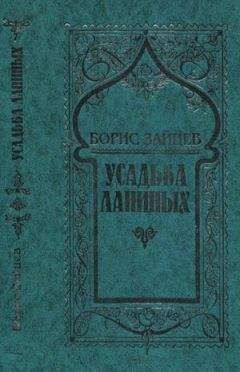- Первый раз в эмиграции чувствую себя не отщепенцем и парией, а человеком.
Действительно, в Югославии к нам относились замечательно. Тон задавал король Александр (учившийся некогда в Петербурге, говоривший по-русски, на русской культуре воспитанный). Но и сами сербы все же славяне, другая закваска, не латинская. Что-то свое. Наш Немирович-Данченко (Василий Иванович), старейший группы нашей, некогда был корреспондентом русской газеты в освободительной войне 1877 года, здесь же, под Белградом, сидел в окопах. Он сербами расценивался теперь как некиим фельдмаршалом от журналистики дружественной.
Мережковский был для них, конечно, как и для русской провинции, некиим заморским блюдом, очень уж на любителя. Куприн проще, доступнее, без бездн и Антихристов, с ним можно было (и занятно) заседать по "кафанам", подпаивать его и быть с ним запанибрата. Мережковский капли вина не пил. Для Куприна капля - ничто.
Помню вечер-банкет у министра народного просвещения. Мережковский сидел в центре, за главным столом, рядом с министром. Слева от министра, тоже рядом, Гиппиус.
Были речи. В некий момент встал и Мережковский (на этот раз Зинаида Николаевна не перебивала его и вообще не мешала). Маленький, худенький, но подтянутый, в смокинге, говорил он хорошо, все же не с таким подъемом, как некогда в Москве, но возвышенно, о борьбе с коммунизмом. Без Антихриста, конечно, не обошлось. Сербы слушали почтительно, но отдаленно.
Вдруг в дальнем конце столов произошло некое движение, тяжко отодвинут стул, к нашему столу, сбоку, приближается нетвердой поступью человек с красным лицом, взъерошенными волосами, останавливается прямо против Мережковского и министра и начинает говорить. Александр Иванович Куприн! За день достаточно утешился сливовицей и пивом в кафанах, но у него тоже есть идейка насчет большевиков - тоже и он оратор. Ничего, что говорит Мережковский. Можно вдвоем сразу, дуэт. Мы тоже не лыком шиты.
Даже сосед мой, достойнейший епископ Досифей - Царство ему Небесное! (впоследствии мученически убиенный) - не может не улыбаться.
Но недолго оказался дуэт. Из тех же глубин, куда засадили Куприна (по неблагонадежности его), вынырнули здоровые веселые молодцы, весело отвели его на галерку. Он не сопротивлялся. Мережковский продолжал плавать в стратосфере. Куприна же, вероятно, отвели в какую-нибудь кафану. Во всяком случае, в тылу у нас стихло. Мережковский кончил спокойно.
***
Через двенадцать лет настали жуткие времена. "Нашествие иноплеменных". Париж сначала сильно опустел. Остались больше всего консьержки. Позже многие возвратились. Мережковские жили по-прежнему на Colonel Bonnet в Пасси. В сумрачные эти годы принимали они по воскресеньям, и об этих скромных дневных чаях осталось хорошее воспоминание - уголок мирной культуры среди кипевшей брани.
Встречал гостей Злобин, секретарь Мережковских. Зинаида Николаевна подымалась с дивана в гостиной, где лежала до нас с папиросой и томиком французским в руках. Лениво подходила к кабинету Мережковского, лениво и протяжно кричала ему:
- Дмитрий, выходи! Пришли.
В столовой собирались понемногу литераторы - более молодого поколения,Адамович приходил, Оцуп, Терапиано, тихая Горская, иногда мы с женой, Тэффи, еще другие. Хозяйничал Злобин. Через несколько минут выходил сгорбившись Мережковский - маленький, пошаркивая теплыми туфлями, позевывая, с таким видом, будто говорил:
"Ну вот, опять пришли",- но все же руки пожимал довольно вежливо. ("Зову, но не настаиваю".)
Злобину, вдруг хозяйственно, почти повелительно и громко:
- Володя, есть пирожные?
Володя разливает чай. За столом он главнокомандующий. На нем вообще держится весь жизненный оборот Мережковских: как заправские писатели дореволюционных времен, сами они вполне в этом беспомощны, как дети. (Чтоб увериться, что чайник закипел, Зинаида Николаевна подымала крышку и через лорнет рассматривала, бурлит ли вода.)
Дмитрий Сергеич все утро, до завтрака, писал своих Францисков, Августинов или читал. Лени в нем ни малейшей. Восьмой десяток, но он все "на посту", как прожил жизнь с книгами своими, так с ними и к пределу подходит. Теперь оба они много мягче и тише, чем во времена Петербурга и Сологуба. Зинаида Николаевна чаще приветливо беседует с моей женой и меня не только не задирает, но держится просто и сочувственно. Дмитрий Сергеич трет себе виски после дневной дремы, заводит разговор, конечно, выспренний, но безобидный.
Так доживали они свои дни в Пасси, на улице Colonel Bonnet. Тут написал он раздирательную книгу о св. Иоанне Креста (St. Jean de la Croix). Долгий путь от "Вечных спутников", "Юлиана Отступника", но всегда плывет, всегда надземный, к небесам лицом, хотя и пирожными интересуется.
Раз, утром зимним, вышел он в кабинет, сел в кресло пред топившимся уже камином - думал ли о св. Иоанне Креста или о чем житейском? Бог весть. Но когда прислуга вошла поправить уголь в камине, он сидел как-то уж очень неподвижно в глубоком кресле этом. Встать с него самому не пришлось. Сняли другие.
На следующий день пришли мы поклониться ему прощально - он лежал на постели, худенький, маленький, навсегда замолкший.
Помню хмурое утро январского ** дня 1941 года - полутьму храма на Дарю, отпевание "раба Божия Дмитрия". Было в церкви нас человек пятнадцать. Хоронили знаменитого русского писателя, известного всей Европе.
______________
** Д. С. Мережковский умер 9 декабря 1941 г. У Б. К. Зайцева - явная описка.- А. Р.
***
Зинаида Николаевна тяжело переносила его уход. Я думаю! Вся жизнь вместе - ведь ни одного письма не сохранилось ее или его к ней: они никогда не расставались. Незачем и писать.
А пережила она его на четыре года. И на том же кладбище Sainte Genevieve des Bois упокоилась она, где и он, в той же могиле. Небольшой стоит там памятник, как бы часовенка. И никаких цветов, никаких знаков внимания от живых. Одиноко жили, одиноко и ушли.
1965
О ШМЕЛЕВЕ
Вы спрашиваете меня об Иване Сергеевиче Шмелеве, что я о нем знаю, что помню. Вопрос законный, отвечаю охотно.
Оба мы москвичи, современники, но так сложилось, что именно в Москве мало знали друг друга. В годы до первой войны он не был членом кружка "Среда" (Леонид Андреев, Бунин, Телешов, Вересаев и др.- временами Короленко, Чехов, Горький). Там прошла моя юность. Не был в наших "Зорях", более молодом и "левом" (литературно) содружестве. Не ходил и в Литературный кружок - Клуб писателей и артистов на Большой Дмитровке.
Иван Сергеич был человек замоскворецкий, уединенный, замкнутый, с большим внутренним зарядом, нервно взрывчатым. В Замоскворечье своем сидел прочно, а мы, "тогдашние" от литературы, гнездились больше вокруг Арбатов и Пречистенок. Тоже Москва, но другой оттенок. В Замоскворечье писатель неизбежно одинок.
Где и когда мы познакомились? Теряется это во тьме времен доисторических. "Среда" расширилась, из частных квартир перекочевала в Литературный кружок, менее стала домашней. Шмелев в это время уж автор "Человека из ресторана" - первый большой его успех.
В этом Литературном кружке, наездами из деревни, встречал я его иногда, но бегло. На его чтения не попал ни разу (просто потому, что приезжал в Москву редко, ненадолго).
А потом мы оказались сотоварищами по "Книгоиздательству писателей", делу кооперативному, где и Бунин состоял членом "артели" литературной, и Алексей Толстой, недавно появившийся талант, и Шмелев, Вересаев, я.
Выпускали альманахи. Дело процветало, книги шли отлично, гонорары писателям тоже (мы сами были и хозяевами).
Подошла революция. Книгоиздательство довольно долго держалось. Но "сосьетеры" разъезжались. Раньше других Бунин с Толстым, потом Шмелев, даже Вересаев.
Страшное время. Террор, кровь, расстрелы заложников, гражданская война, массовое истребление молодежи. Мы с Иваном Сергеичем испили свою чашу гибель близких (юных!).
В Крыму был расстрелян его сын, молоденький офицер белой Армии. Это произошло вдали от меня, но, зная Шмелева (хоть и поверхностно), его наэлектризованность, силу душевных движений, могу себе представить (да и сам имел опыт!), до какого отчаяния доходил он. Думаю, до некоей грозной грани...
Теперь и для него, и для меня Россия за горами, за долами. Встретились мы снова на чужой земле, в Берлине 1922 года. Помню, поразил он меня своим видом. Черные очки, бледность, худоба, некая внутренняя убитость - все понятно, все понятно, конечно...
В Берлине никак не мог он еще расправиться, выпрямиться и возопить. А потом принял нас всех Париж. Тут понемногу он оправился. Полагаю, как и не в нем одном, революция и ее муки обострили, повысили у него религиозное чувство и чувство Родины, Руси. Тут написал он одно из самых страстных своих произведений - "Солнце мертвых", тут появились и вообще лучшие его писания: "Лето Господне", "Богомолье"**. Это уже восторженные какие-то слезы (но сдержанные) о Москве, детстве, Замоскворечье. По силе вещественного воспроизведения с ним может равняться только Бунин, но подспудным духовным пылом Шмелев его превосходит - православным пылом (чего у Бунина вообще не было).