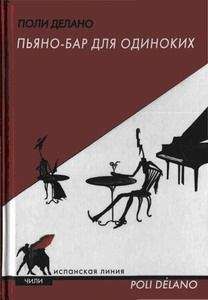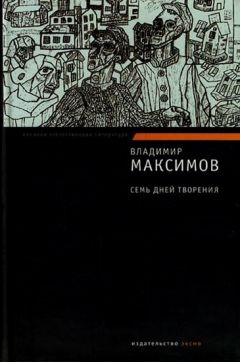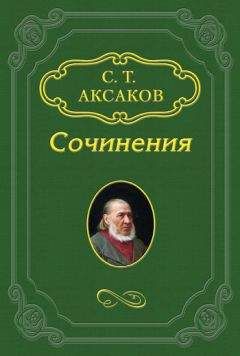Она вошла, не удостоив их даже взглядом, села и птичий профиль ее вновь молчаливо замер у истекавшего ливнем окна.
А Петру Васильевичу вдруг представилась на ее месте другая женщина, много лучше и моложе, в другие, куда более строгие и тревожные времена, сидевшая вот так же прямо против него в служебном купе поезда, который он тогда сопровождал.
Только была ночь и было лето.
Забившись в дальний угол, Мария, подобранная им в Епифани по просьбе знакомого путейца, доводившегося ей дядей, не мигая, и даже как бы с вызовом смотрела в его сторону и молчала. Молчал и обер. Привыкнув разговаривать с такого рода пассажирами в тоне грубоватого покровительства, он неожиданно для себя робел перед нею и смущался. Что-то увиделось обер-кондуктору в этой неказистой с виду девахе, отчего ему всякий раз, едва он вознамеривался взять былой тон, перехватывало дыхание.
Первые слова вымолвил, будто гору одолел:
- Узловские сами?
Она ответила коротко, но с готовностью:
- Не, мы с шахты.
- Сычевские, значит?
- Они самые.
- В гостях были?
- Не, по хозяйству. - И тут же пояснила: - Тетя Груша приболела, дом присмотреть некому, а нынче встала, вот я и к себе... Смерть соскучилась...
- Скоро будем.
- Скорей бы.
- Много ль вас дома-то?
- Окромя меня, пятеро. Мать с отцом и сестер трое.
- Нелегко отцу-то?
- Нелегко.
В их разговоре, во внешней его обыденности таился еще и другой, понятный только для них двоих смысл, где каждое слово имело свое сокровенное, понятное только им значение. Стремительно и властно ее и его захватывало предчувствие неотвратимости этой встречи и поэтому, чем ближе и устойчивее становились огоньки Узловска в заоконной темени, тем трепетнее и тише звучали их голоса...
- Весело у вас в Сычевке...
- Уж там и веселье: выпьют парни да куражатся .
- Узловские наши ходят?
- Не, стерегутся.
- Что так?
- Не привечают их у нас ребята...
- Чем же не пришлось?
- Чисто ходите... И другое, разное...
- А коли не побояться?
- Попытайте долю...
Первый станционный фонарь раздвинул ночь впереди, и, победно возликовавший было обер, впервые, пожалуй, за недолгую свою службу подосадовал столь скорому прибытию:
- Значит, не прогоните?
- У нас места всем хватит,- скокетничала непонятливостью она. - И девки наши не хуже узловских.
- А мне всех и не надо...
И он, наверное, не выдержал бы, выложил ей все, что вдруг так внезапно и жарко заполнило его душу, но поезд, в последний раз дрогнув, замер. Мария поднялась, прошелестела мимо него к выходу, откуда молча поклонилась ему, и тут же исчезла в проходе.
А на другой день к вечеру, едва за Хитровым прудом выплеснулся первый балалаечный перезвон, Лашков в свежей суконной паре уже вышагивал в сторону Сычевки, и хромовые - бутылками - сапоги его празднично блистали в розовом свете затухающего заката.
И еще не дойдя до околицы, услышал он, выделенный им теперь изо всех голосов, ее голос, и все замерло в нем, и душное стеснение под сердцем перехватило ему горло...
Гармонист, играй припевки,
Расставайся, Мишенька.
Не спешите замуж, девки,
Еще хлебнете лишенька...
А та, будто чувствуя его недалекое присутствие, неслась к нему очередной припевкой и душа его при этом головокружительно холодела:
Платье белое наглажу,
Вдоль по улице хожу.
Захочу кого - отважу,
Захочу приворожу.
Долго еще ходил он вокруг посиделок, стесняясь чужаком втереться в шахтерское веселье, пока, наконец, Марию уж после полуночи не вынесла к нему последняя ее частушка:
Гармонист у нас один,
Балалаечник один.
Не ходите, не просите,
Никому не отдадим...
Мария выявилась перед ним в темноте так близко, так неожиданно, что он только нашелся:
- Вот к родне наведывался...
Та лишь обморочно выдохнула:
- Здравствуйте, Петр Васильевич...
И хотя в эту ночь у Хитрова пруда они сказали друг другу едва ли более двух слов, он, возвращаясь к себе, не шел, а летел, опаленный никогда ранее не изведанной им радостью.
Его свалили почти у самого подхода к слободе против соседствующего с его усадьбой кимлев-ского сада, а свалив, били с молчаливым остервенением, даже, казалось, сладострастием. И только когда кровавые круги поплыли перед разбухшими глазами обера, к нему сквозь ускользающее сознание пробился чей-то хриплый от азартного жара голос:
- Не добивайте, братцы, пусть покашляет, пес... И другим дорогу в Сычёвку закажет... Рылом покуда не вышли да для наших девок...
Один Бог знает, как он добрался домой. А когда пришел в себя, то вместе с утренним светом и болью воспринял ошеломляюще знакомый, тронутый отчаянием говорок:
- И что же они с вами сделали, ироды! Звери дикие, угольная прорва... Хуже зверей, право... Ироды!
- Маша,- только и сказал Лашков, снова впадая в забытье,- не уходи...
И она осталась.
Осталась до самого того слякотного мартовского дня, когда четыре ее свояка на двух полотенцах вынесли ее за порог лашковского пятистенника.
И не раз еще потом переживший дочку отец ее - Илья Махоткин - по пьяной лавочке, минуя дом Петра Васильевича, с хмельной укоризной кричал в сторону его окон:
- Погубил ты, Петька, ирод, девку! Голубиную душу погубил! Сушь, сухой дух от тебя идет... Кащей ты, ирод, который бессмертный, и нет в тебе ни одной живой жилы. Христос с тобой!..
Размытый было воспоминанием, против него вновь обозначился птичий профиль неколебимой соседки, так-таки и не отвечавшей на жалобный зов своего отставника:
- За руки ходили...
IX
В Москве Петр Васильевич не был с того самого дня, когда, сдав кондукторскую сумку и служебный компостер, он возвратился домой обыкновенным пенсионером. Поэтому сейчас, после сравнительно устойчивой тишины Узловска, она увиделась ему еще более, против прежнего, гулкой и неуютной. Долго, стараниями даровых советчиков, блуждал он в паутине Сокольничес-ких переулков, пока не отыскал обозначенную в его адресной справке улицу. Нужный ему номер возник перед ним сквозь листву корявого тополя, стоявшего у деревянного, в два этажа, дома, над крышей которого гляделся другой - каменный, ростом повыше. Войдя во двор, Петр Васильевич встал, чтобы перевести дух. Сердце его тревожно обмирало и дергалось: "Сорок с лишком лет, шутка ли!"
В сумраке пропахших кошачьим бытом сеней он с трудом нащупал кнопку дверного звонка и, позвонив, еще раз обеспокоился: "Откроет и не узнает, да". Но едва в проеме двери перед ним определилось заспанное, в сивой щетине лицо, как всякое сомнение оставило Петра Васильевича: за порогом, словно его собственное отражение в зеркале, вяло переминался с ноги на ногу старик явно ихней - лашковской породы. И тот, в свою очередь, будто пролегло между ними не около полувека разлуки, а всего, может быть, от силы день-два, лишь слегка присвистнул навстречу гостю:
- Ишь ты... Проходи...
Захламленную, похожую скорее на логово, чем на жилье, конуру брата скупо освещало забранное со двора частой решеткой тусклое окошко. Стены, оклеенные старыми газетами, немо кричали довоенными еще заголовками: "Пламенный привет героям-челюскинцам!", "Раздавим гадину!", "Руки прочь от Мадрида!" На колченогом столе, в окружении порожней, разных калибров посуды, простуженно отсчитывал время обшарпанный будильник. Опускаясь на придвинутый братом стул, Петр Васильевич растерянно огляделся:
- Так и живешь?..
- Так и живу,- безучастно отозвался тот, рассовывая посуду со стола по разным углам и заначкам. - Народ ко мне ходит простой, не брезгует, а кому не по нраву, гуляй в другое место... На-ка вот, ободрись с дороги. Трясущимися руками он разлил непочатую еще четвертинку в два стакана и один из них пододвинул брату. - Со свиданьицем...
В наступившем затем долгом молчании Петр Васильевич исподтишка присматривался к брату, стараясь по черточке, по отметине восстановить для себя в памяти именно тот облик, который сложился в его воображении задолго до этой встречи. Будучи пятью годами старше Василия, он сызмала сохранил к тому чувство снисходительного превосходства. Но самолюбивый и упрямый, как и все почти Лашковы, тот, едва оперившись, поспешил вырваться из-под его опеки, и уже к совершеннолетию ушел на шахту, откуда и мобилизовался в армию. Из тех редких писем, какие поступали от него в Узловск к однолеткам и знакомым, можно было лишь заключить, что служба давалась ему непросто, что после нее жизнь у него складывалась еще круче и что старость он встретил бездетным бобылем в том же доме, где и поселился с самого начала. Лет десять тому Василий внезапно замолчал и память о нем в родном городе окончательно заглохла и выветрилась.
И теперь, вглядываясь в смутно обозначенные черты, Петр Васильевич с затаенным сожалени-ем отметил про себя их преждевременную пепельность и желтизну, горестно догадываясь, какой мерой отмерено было брату всего за долгие годы их разлуки.