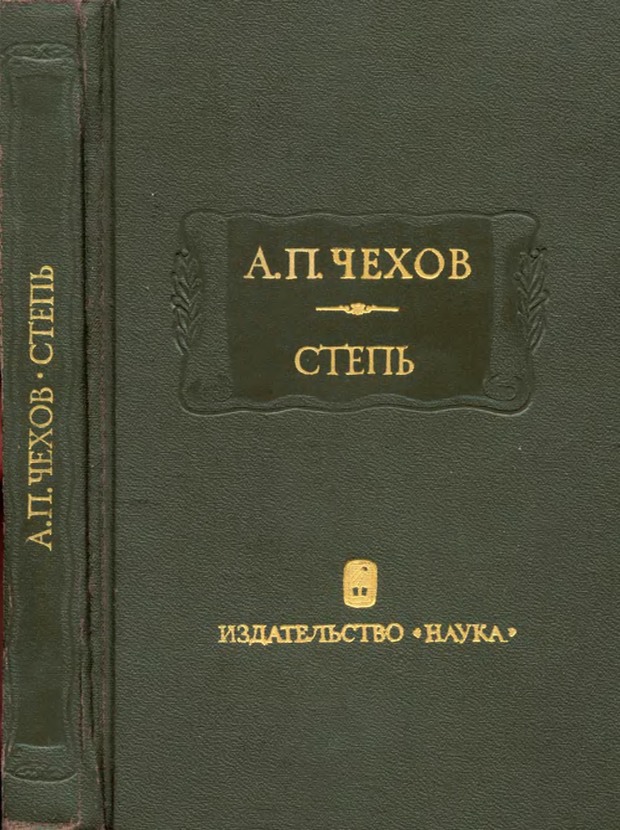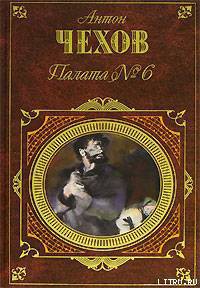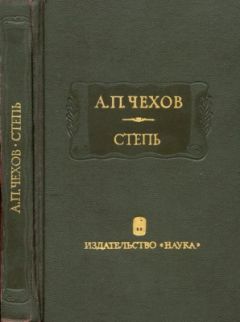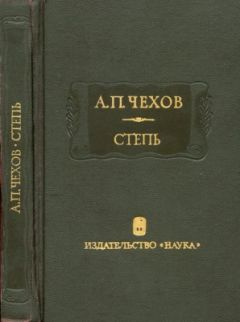Все возы, потому что на них лежали большие тюки с шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади — маленькими и коротконогими.
— Так мы, значит, теперь к молокану поедем! — громко говорил Кузьмичов. — Жид сказывал, что Варламов у молокана ночует. В таком случае прощайте, братцы! С Богом!
— Прощайте, Иван Иваныч! — ответило несколько голосов.
— Вот что, ребята, — живо сказал Кузьмичов, — вы бы взяли с собой моего парнишку! Что ему с нами зря болтаться? Посади его, Пантелей, к себе на тюк и пусть себе едет помаленьку, а мы догоним. Ступай, Егор! Иди, ничего!..
Егорушка слез с передка. Несколько рук подхватило его, подняло высоко вверх, и он очутился на чём-то большом, мягком и слегка влажном от росы. Теперь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко.
— Эй, возьми свою пальтишку! — крикнул где-то далеко внизу Дениска.
Пальто и узелок, подброшенные снизу, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чём думать, положил под голову узелок, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия.
«Спать, спать, спать…» — думал он.
— Вы же, черти, его не забижайте! — послышался снизу голос Дениски.
— Прощайте, братцы! С Богом! — крикнул Кузьмичов. — Я на вас надеюсь!
— Будьте покойны, Иван Иваныч!
Дениска ахнул на лошадей, бричка взвизгнула и покатила, но уж не по дороге, а куда-то в сторону. Минуты две было тихо, точно обоз уснул, и только слышалось, как вдали мало-помалу замирало лязганье ведра, привязанного к задку брички. Но вот впереди обоза кто-то крикнул:
— Кирюха, тро-о-гай!
Заскрипел самый передний воз, за ним другой, третий… Егорушка почувствовал, как воз, на котором он лежал, покачнулся и тоже заскрипел. Обоз тронулся. Егорушка покрепче взялся рукой за верёвку, которою был перевязан тюк, ещё засмеялся от удовольствия, поправил в кармане пряник и стал засыпать так, как он обыкновенно засыпал у себя дома в постели…
Когда он проснулся, уже восходило солнце; курган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом на мир, напряжённо пялило свои лучи во все стороны и заливало горизонт золотом. Егорушке показалось, что оно было не на своём месте, так как вчера оно восходило сзади за его спиной, а сегодня много левее… Да и вся местность не походила на вчерашнюю. Холмов уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая, невесёлая равнина; кое-где на ней высились небольшие курганы, и летали вчерашние грачи. Далеко впереди белели колокольни и избы какой-то деревни; по случаю воскресного дня хохлы сидели дома, пекли и варили — это видно было по дыму, который шёл изо всех труб и сизой прозрачной пеленой висел над деревней. В промежутках между изб и за церковью синела река, а за нею туманилась даль. Но ничто не походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги; то была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно, в самом деле, подумать, что на Руси ещё не перевелись громадные, широко шагающие люди, вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника, и что ещё не вымерли богатырские кони. Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук шесть высоких, рядом скачущих колесниц, вроде тех, какие он видывал на рисунках в Священной истории; заложены эти колесницы в шестёрки диких, бешеных лошадей и своими высокими колёсами поднимают до неба облака пыли, а лошадьми правят люди, какие могут сниться или вырастать в сказочных мыслях. И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали!
По правой стороне дороги на всём её протяжении стояли телеграфные столбы с двумя проволоками. Становясь всё меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью, а потом опять показывались в лиловой дали в виде очень маленьких, тоненьких палочек, похожих на карандаши, воткнутые в землю. На проволоках сидели ястребы, кобчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся обоз.
Егорушка лежал на самом заднем возу и мог поэтому видеть весь обоз. Всех подвод в обозе было около двадцати и на каждые три подводы приходилось по одному возчику. Около заднего воза, где был Егорушка, шёл старик с седой бородой, такой же тощий и малорослый, как отец Христофор, но с лицом, бурым от загара, строгим и задумчивым. Очень может быть, что этот старик не был ни строг, ни задумчив, но его красные веки и длинный, острый нос придавали его лицу строгое, сухое выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьёзном и в одиночку. Как и на отце Христофоре, на нём был широкополый цилиндр, но не барский, а войлочный и бурый, похожий скорее на усечённый конус, чем на цилиндр. Ноги его были босы. Вероятно, по привычке, приобретённой в холодные зимы, когда не раз, небось, приходилось ему мёрзнуть около обоза, он на ходу похлопывал себя по бёдрам и притопывал ногами. Заметив, что Егорушка проснулся, он поглядел на него и сказал, пожимаясь, как от мороза:
— А, проснулся, молодчик! Сынком Ивану Ивановичу-то доводишься?
— Нет, племянник…
— Ивану Иванычу-то? А я вот сапожки снял и босиком прыгаю. Ножки у меня больные, стуженые, а без сапогов оно выходит слободнее… Слободнее, молодчик… То есть без сапогов-то… Значит, племянник? А он хороший человек, ничего… Дай Бог здоровья… Ничего… Я про Ивана Иваныча-то… К молокану поехал… О, Господи, помилуй!
Старик и говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками и не раскрывая как следует рта; и губные согласные выговаривал он плохо, заикаясь на них, точно у него замёрзли губы. Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим.
Дальше через две подводы шёл с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в картузе и сапогах с опустившимися голенищами. Этот был не стар, лет сорока. Когда он оглянулся, Егорушка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с губчатой шишкой под правым глазом. Кроме этой, очень некрасивой шишки, у