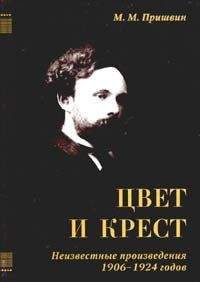Законченная в своем творчестве легенда становится актуальной: по словам газеты «Красный Север», перед Вологодским музеем стоял целый хвост людей, желавших посмотреть черта.
Подробности
Легенда понеслась по всей стране, докатилась до Украины, где передавали, что черт родился в Пермской губернии, а в Подольской губернии одни указывали на Ярославскую, другие на Костромскую как на родину черта. Но особенно интересна обработка легенды в Ржеве, Тверск<ой> губ<ернии>, появившаяся здесь значительно позднее, где рассказывали, что родился поросенок с человеческой головой, – поросенок родился живым, но был убит мужиком, и этого мужика будто бы расстреляли за то, что он загубил человеческую душу. Говорили, что после появления на свет поросенка был расстрелян священник, арестованный раньше за то, что он раньше предсказал рождение получеловека-полусвиньи. Вся легенда в деталях с неизбежными остротами и сплетнями носила явный характер сатиры на некоторые общественные явления того времени. Досадная молва волновала настолько, что осенью 1921 года особое ветеринарное совещание составило акт.
Акт
«Акт 1921 года 14 октября, согласно телефонограммы Уисполкома, комиссия в составе врача Филатова, Иоссель, Кринского, ветеринарного врача Волкова, под моим председательством осматривала препарат (формалин) поросенка, доставленного из рассадника Зеленкино, причем оказалось, что поросенок приблизительно шести вершков, мужского пола. Конечности развиты нормально, имеются копытца; туловище никаких ненормальностей не представляет. Черепная коробка недоразвита и неправильной формы. Лицевая сторона представляет из себя род складок, происшедших вследствие складки ушных раковин (дающих впечатление глаз), под ними имеется хрящевое образование, предназначенное, очевидно, для нижней челюсти, под которым имеется слепое отверстие (создающее впечатление носа). Под этими, т. е. складками, на расстоянии двух сантиметров имеется бородавчатое возвышение с волосами по бокам. Впечатление лица происходит исключительно вследствие случайно происшедших складок, вследствие недоразвития хрящей и вообще черепной коробки. Никаких оснований предполагать, что поросенок имеет человеческое лицо и голову, не имеется».
Заключение
Теперь от себя скажу, что легенда о родившемся черте, конечно, не миновала и моего слуха, я, например, знаю и такие подробности: в деревне Следово Смоленской губ<ернии> жена б<ывшего> военного комиссара Петра Васильевича Ермилина, Акулина, потихоньку от мужа повесила на рожденного ею ребенка крестик, чтобы предохранить его от превращения в черта; знаю, что Смоленский черт был заделан в ящик и отправлен в Москву в музей… Знаю, что и вот эта кустарная деревня Тверск<ой> губ<ернии>, где я сейчас переписываю свою работу, – такая же: в любой избе стоит мне только заикнуться о родившемся черте, как мне откликнутся новыми бесчисленными вариантами. Но я ничего не хочу больше рассказывать, потому что, кажется, уж и так хозяин линий кривых в моей работе начинает перевешивать хозяина линий прямых. Удивительно, как легко и занятно писать и читать о черте, но как трудно возбудить интерес в той области, где прямая считается кратчайшим расстоянием между двумя точками. Вот почему надо всемерно использовать отмеченный мною вначале широкий интерес в народных массах к науке, к этому «почему» Голубиной книги. Не нужно только узко понимать задачу и ограничиваться изданием «популярных книжек». Таких конференций, всякого рода съездов в Москве бывает сколько угодно, хватило бы только людей, умеющих интересно писать о них. Секрет же интересного описания я, кажется, уже здесь довольно ясно открываю: писатель добрых начал человечества не должен очень сердиться на черта, напротив, он должен так увлекательно писать о пользе науки, чтобы и сам черт записался в студенты. Вот, когда это случится, только тогда недоказуемое положение, что прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками, будет воистину доказано и перейдет из отдела аксиом в теоремы.
Всего только в одной версте от той деревни, где я живу, в другой деревне устроили сами крестьяне у себя электричество, приспособив для этого трактор как двигатель; сейчас там устраивается паровая молотилка, читают газеты, книги, вообще хорошо. Мне стоит только пройти версту, чтобы собрать материал для жизнерадостного очерка, но я не иду, потому что это будет выискивание материала. Удовольствие же писать «по градам и весям» состоит в том, чтобы писалось так же свободно, как частное письмо. Даже имена людей и прозвища я не переделываю, потому что как только станешь переменять имя, так перестает писаться свободно. А прозвища так прямо и невозможно переменять.
Так вот из-за этого, из-за близости материала, вечером я не смотрю на небо, выискивая на нем рыжее пятнышко от электричества соседней деревни, а наблюдаю возле себя.
Каждую ночь огонек 20-линейной «Молнии», привешенной над верстаком соседа моего, башмачника, через прогон тускло освещает и мою деревенскую хижину. Он работает башмаки пару за парой, иногда по трое суток подряд, засыпает на короткое время у своей липки, подложив под голову свой пиджак. В базарные дни, наработав целую корзину, он несет ее на голове так привычно, что не поддерживает даже рукой.
Глаза моего соседа выцвели от напряженной работы зрением, стали как снятое молоко и с непременной слезой, ветер как будто пошатывает кустаря, или походка его такая неровная оттого, что грудь колесом, как у гоночного велосипедиста. Мастер он недурной, выработал ценою всей жизни такие приемы, какие отличают его работу от работы соседа, и потому они с соседом знают только себя и свое ремесло: про них можно сказать, как о попах – «два попа в одном приходе, два котла в метке».
С крестьянами, теми русскими мужиками, которые веками выносили все ужасные невзгоды царизма, эти кустари имеют мало общего. Они гораздо ближе к своеобразному населению русских городских слобод. Эти кустарные деревни как бы продолжение Растеряевой улицы.
Мой сосед – человек, крайне придавленный жизнью и, кажется, туберкулезный, похож на живого мертвеца. Он занят мечтой выстроить себе новый дом. Бревна уже сложены перед его завалюшкой и над ними предохраняющий от дождя тесовый навес. Бессознательно, под лозунгом для себя самого, этот бедняк очень возможно строит его для такого чужого человека, как я.
За небольшую плату я снимаю новый выморочный дом в этой кустарной деревне, не чувствуя даже благодарности к покойному строителю: я расплачиваюсь аккуратно с комитетом взаимопомощи. В деревне я называюсь жильцом в отличие от хозяев, владельцев домов, и, конечно, как жилец, человек, избежавший необходимости строить дом для других, я непременно чужой и подозрительный человек.
Среди этих кустарей не все были неудачливые и честные в труде. Иногда на обувном деле можно было хорошо наживаться, дело обувное во время войн было золотое дно для разживы, и только жилец по природе своей не делался хозяином мастерской. И хозяева, и работники в то время легко отрывались от невыгодного земледелия и селились на окраинах столиц. Перебираясь в столицу один за другим, они и селились там рядом, занимая целые улицы, как было в европейских средних веках. Однако аромат жизни, сопровождающий человеческий труд, не оставался, как в Европе, на городских улицах, даже напротив, в Москве улицы ремесленников одни из самых жалких – там нет даже и признаков искусства. Не потому ли в городе не оставалось искусства, что наш ремесленник был целиком во власти земли?
Городской ремесленник жил мечтой возвратиться в свою родную деревню, в новый прекрасный дом, который он выстроит себе на скопленные деньги: в этот деревенский дом уходила вся его ремесленная мечта. Строили даже и за глаза, были на местах особые подрядчики и строили их по московскому шаблону, деревянные, в два этажа, с голубятником. Иногда к дому присоединяется вычурная павильонная пристройка, иногда ореховая дверь с электрическим звонком, и вокруг дома, как в дворянских гнездах, на двухстах саженях лиловое карре в два ряда. Все, как у господ, ничего своего, но что из этого?
Так вот и создавалась деревня промышленного типа, законное дитя буржуазного города.
Было время, когда в такой деревне, где я живу, стояли только такие дома-призраки, а сами жители безвыездно жили в столицах. Бывало, тут кое-где живут старики, больные, какая-нибудь богомольная старая дева спасается – и больше никого. Революция выгнала хозяев из столиц, мастерские рассыпались, каждый хозяин сделался деревенским кустарем-одиночкой, проживая в нижнем этаже своего дома-мечты или позади его в маленькой избушке-зимовочке.
Казалось бы, места довольно и для всяких жильцов, но попробуйте тут снять себе квартиру, это будет, наверно, труднее, чем в Москве: ведь дом – это для кустаря всё, и как у настоящего художника есть непродаваемая мечта, которую он бережет для себя, так и у кустаря свой собственный дом.