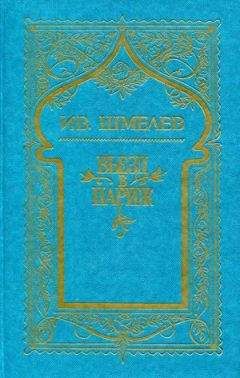Я не ученый, знаю. Но сердцем и болью знаю, что нет и не было никогда первой у нас науки – науки о России. Ее мы должны создать. Вернее – должны собрать. Она уже есть, в возможностях, – богатая наука. Она – чуть ли не вся она – в нашем Пушкине. Его изучают много. Но немногим дано сердцем познать его. Его и возьмут в науку о России: он для сего и есть. Его изучать будут по-другому – учиться по нем России, с младенчества и до зрелых лет. Он пройдет от начальных школ и до университетов, и новая наука – «О России» – будет священна Пушкиным. Время придет – и создадут Русский Пантеон, и свет Пантеона нашего, озаренный Христовым Светом, разольется в великий Свет – радостного познания России – польется из Храма Мученицы Св. Татьяны. Придет время.
У нас – великое наше счастье, великая гордость наша – есть двое величайших: Пушкин – Достоевский, одно – двое. От них-то, познанных до возможного, пойдет новая, русская, наука – наука о России и человечестве: в данной ими гармонии. Оба вышли из дальних далей, из беспредельного, из общей начальной точки, как бы дочеловеческой, – из Духа Господня, – для откровения России. И принесли откровение. На наших земных глазах, в пространстве трех измерений, идут они, двумя параллельными путями, как будто не сливаясь. Один – ясный, как Божий день, такой определенный. Поэт чистый. Светит светом дня Божьего. Через него все видно, все, что только могут узреть его «вещие зеницы, как у испуганной орлицы». Через него только мы можем обнять весь мир, как ни через кого, можем познать Россию – внять Ей. Познать свое место в мире – высокое! Можем постичь небесное и земное –
И горний ангелов полет,
. . . . . . . . . .
И дольней лозы прозябанье.
Такой всеобъемлющий – и ясный. Такой человеческий и русский! Все наше можем познать, и с такой свежей светлостью, как только доступно детям. Помните, от Евангелия – «открыл младенцам»?
Другой – Достоевский, мудрый из величайших, вскрыватель недр – потемок и провалов в человеке до подсознательного. Не только. Он и вещатель взлетов человека, парений его духа, его души. Изобразитель тонкий высоких и низменных движений, ключарь человеческого рая, ада, ведун общей душевной жизни, всечеловеческой, и – яркого выражения ее – всечеловечности – души русской и русского существа, всего. Страшным даром ему дано внимать
«И гад морских подводный ход» – в душе.
Ему же дано в удел и томление – величайшая «духовная жажда» – сладкий и горький подчас удел духа русского – и власть утолять ее. Он так же мало еще воспринят, как и его дружка Пушкин. Вот два величайших моря-океана, две великих воды, две «живых воды», от которых мы будем сладко и долго пить и, пия, познавать Россию и мир. Бесконечно идут они, будто бы не сливаясь. Они сливаются, невидимые для нас, в беспредельности, замыкая собой как бы великий эллипс, русскую сферу нашу, и с ней – общечеловеческую. В них одних все, что человечеству можно и надо знать, чтобы быть в мире неслепым, чтобы достойно жить. Это чудеснейшая, неслышная еще нам гармония – ток этих сильных вод, родственных так друг другу, как никто, никому, нигде. Восполняя один другого, дают они человека в завершении, дают полноту возможного человеческого духа и, особенно, русского. И не странно, а так понятно, почему, переживший, Достоевский влекся к другому, к Пушкину. Внял его – и себя восполнил. На пороге своей могилы открыл его и показал нам. И властно сказал – примите! И на единый, короткий час захватил столь бурливое, ищущее предела духовное море русское и сказал – утихни. Расплескалось опять оно, и нет берегов его, и плещется бестолково, смутно. Достоевский открыл нам Пушкина – «явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», – сказал Гоголь, – «и пророческое», – добавил Достоевский. Открыл – и, через него, пытался дать синтез человека, русского человека – деятеля в мире и – России. Это наука нам, завет нам и наставление. Это замогильный голос великого Пророка: Россия, познай себя, – и перестроишь мир! Не услыхала Россия, не поняла, не вняла. Не вняла ни гармонии Пушкина, светлой, простой и ясной; ни обещанному ПОЛЕТУ после ВНЯТИЯ Пушкина, – Достоевского! И теперь – что же с ней!
Вот основы русского просвещения, первой науки нашей, те крепкие оковы, которые мы или потомки наши должны положить в постройку – в будущее строение России. «Познай себя» – таинственные Слова на Храме. Познай себя, через Свет Христов, при свете величайших, единокровных с тобою гениев. Познай, – и не будет того, чему ныне соученики.
Поминки по Мученице Татьяне должны многому научить и нас, готовых принять урок, и тех, кто все еще не считает себя виноватыми. А не научимся этому уроку – так и не внидем в Храм, так и останемся вековечными «русскими европейцами», «интернационалистами», «мировой обшмыгой».
С горестной высоты блуждания видится мне невиденное раньше. Татьяна..? Обе во мне объединяются: Мученица, память которой ныне, и другая Татьяна, Таня, пушкинская Таня, образ утраченной России… «Мировые обшмыги», «русские европейцы», мы не сумели понять, познать… утратили – и теперь рвемся к Ней, горько томимся и страдаем. Тщимся теперь по забытым чертам воссоздать убегающий милый образ… Теперь мы чутки. Теперь мы, в томлении, ловим
…тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья…
Теперь по-иному вчитываемся:
Тогда – не правда ли? – в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась… Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?..
Теперь и особый смысл чудится нам в словах:
Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал…
Мы теперь вполне постигаем этого «спутника странного» и несколько запоздало готовы расстаться с ним, и звенит в ухе горькое – «международный обшмыга». Теперь мы видим его, этот сокровенный идеал Пушкина, – а сколько его разгадывали и теперь, кажется, все разгадывают! – всегда, всегда идеал его, – видим через боль, через утрату, через страшный «магический кристалл» терзании… Видим Россию нашу и в ней – Татьяну нашу…
Кто даст нам откровенье, утешенье? Узрим ли, найдем ли? Оно – в Пушкине. Не можем не найти.
В надежде славы и добра,
Гляжу вперед я без боязни…
Найдем. Кто-то обретет Татьяну. Не те, чудища сна ее, кошмара, «как на больших похоронах», не те – «в рогах, с собачьей мордой», на «череп на гусиной шее, в красном колпаке», – к которым затащил медведь Татьяну, – медведь!? – затащил туда, где –
Мельница вприсядку пляшет, –
где –
Лай, хохот, пенье, свист b хлоп.
Этот кошмар пройдет, и вновь обретет Татьяну мужественный, русский человек, кто примет ее, как редкий из редких даров, дар за муки, за доблесть, за жертвы, за раны свои, за пылкую и глубокую к ней любовь. Обретет и сохранит навеки. Ибо подлинно будет ценить ее, бесценную, и детей научит хранить ее – великой науке познания своей Матери – России.
Январь, 1930 г.
Севр
(Памятка)
Нет, не только «темное царство», как с легкого слова критика повелось у нас называть русского купца XIX века – излюбленного героя комедии А. Н. Островского в России – в Москве особенно – жило и делало государственное и, вообще, великое жизненное дело воистину именитое купечество – «светлое царство» русское. Не о промышленности и торговле речь: российское купечество оставило добрую память по себе и в духовном строительстве России. Ведь труд и жертва на поприще человеколюбия – помощь сиротам и обездоленным, больным и старым, пасынкам беспризорной жизни, – дело высокой духовной ценности, и его широта и сила показывают ярко, на какой высоте стояло душевное российское просвещение. Корни его глубоки: вспомните трогательный обзор Ключевского – «Добрые люди древней Руси». Великое древо жизни росло и крепло. Где оно, это древо, – ныне?..
Почтим, помянем.
Эта заметка-памятка не притязает на полноту. Неисчерпаемо море щедрых даров купечества во имя человека-брата; не перечислить имен достойных, не вспомнить минувших дел, всех, сполна: нельзя охватить Россию. Эта памятка говорит только о Москве. Перечисляю по памяти: нет под рукой справок, и неведомо – где они.
Не только дело «богоугодное» нашло в московском купечестве силу великого размаха: российское просвещение в науках и искусствах также многим ему обязано.
Всему миру известна московская «Галерея Третьяковская», в тихом, кривом и узеньком Толмачевском переулке, в Замоскворечье, – величайшее из собраний картин русских художников, можно сказать – живая история русской живописи. Все великие мира, кто только не заезжал в Москву, все побывали в этом глухом углу, где заборы с набитыми гвоздями охраняют купеческие дома с садами, где поют соловьи весной, где по зимам вздымаются сугробы, а в высокое половодье подчаливают лодки. В этой купеческой усадьбе зародилась жемчужина – сокровище русского искусства. Именитые иностранцы по ней о Москве судили, о России, о русском гении. Вложила она немало в добрую славу о России. Великую эту галерею всю жизнь собирали Третьяковы, именитые москвичи-купцы. Бережно собирали и хранили. Собрали, затратив миллионы. И принесли в дар Москве, – дар бесценный. И еще капитал оставили, с усадьбой и завещанием: хранить, продолжать и – доступ бесплатно всем. Рассказывают, что Александр III, думая о музее в Петербурге, сказал, разумея русские картины: «Посмотрим, что-то оставили купцы Третьяковы на нашу долю».