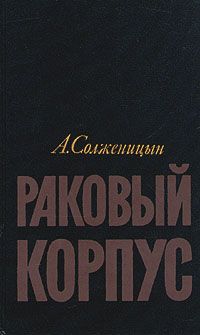Ознакомительная версия.
– Ще-восемьсот пятьдесят четыре! (См. далее: Б-219, Б-502, Б-731, К-460, Х-123, Х-920, Щ-208, Щ-311, Ю-48, Ю-81.) – Сочетание чётко различающихся и удобных для произнесения букв (обычно из двадцати восьми) с цифрами от единицы до тысячи в каторжных номерах даёт представление о количестве заключённых в Особом лагере, где сидит Иван Денисович Шухов.
О себе А. С. говорит: «Весь Экибастуз я проходил с номером Щ-232, в последние же месяцы приказали мне сменить на Щ-262. Эти номера я и вывез тайно из Экибастуза, храню и сейчас».[43]
Одно из писем (от В. Л. Гинзбурга), полученных автором после публикации рассказа, начиналось так: «Дорогой Александр Исаевич! Разрешите представиться по формуляру: № Ы-389, Озёрлаг, начало срока – 1949 г., выбыл по реабилитации 22 мая 1956 г.». А. С. ответил: «Письмо Ваше уникально для меня Вашим номером: Ы. Если бы я знал, что такая буква существовала, то Иван Денисович был бы, разумеется, Ы-854. Но, увы, слишком поздно…»[44]
Скрипя валенками по снегу, быстро пробегали зэки… – «Два слова о самом термине зэки. До 1934 года официальный термин был лишённые свободы. Сокращалось это „л/с“, и осмысливали ли туземцы себя по этим буквочкам как „элэсов“ – свидетельств не сохранилось. Но с 1934 года термин сменили на „заключённые“ (вспомним, что Архипелаг уже начинал каменеть и даже официальный язык приспосабливался, он не мог вынести, чтобы в определении туземцев было больше свободы, чем тюрьмы). Сокращённо стали писать: для единственного числа „з/к“ (зэ-кá), для множественного – „з/к з/к“ (зэ-ка зэ-ка). Это и произносилось опекунами туземцев очень часто, всеми слышалось, все привыкали. Однако казённо рождённое слово не могло склоняться не только по падежам, но даже и по числам, оно было достойным дитём мёртвой и безграмотной эпохи. Живое ухо смышлёных туземцев не могло с этим мириться, и, посмеиваясь, на разных островах, в разных местностях стали его по-разному к себе переиначивать: в одних местах говорили „Захар Кузьмич“, или (Норильск) „заполярные комсомольцы“, в других (Карелия) больше „зак“ (это верней всего этимологически), в иных (Инта) – „зык“. Мне приходилось слышать „зэк“. Во всех этих случаях оживлённое слово начинало склоняться по падежам и числам. (А на Колыме, настаивает Шаламов, так и держалось в разговоре „зэ-ка“. Остаётся пожалеть, что у колымчан от морозов окостенело ухо.) Пишем же мы это слово через „э“, а не через „е“ потому, что иначе нельзя обеспечить твёрдого произношения звука „з“».[45]
…хоть карточки давно кончились… – Продуктовые и промтоварные карточки, которые очередной раз вводились в основном с июля по октябрь 1941 г., были отменены постановлением Совета Министров и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г.
…ЧТЗ (из резины обутка, след автомобильный). – От названия тракторов Челябинского тракторного завода, который специализировался на выпуске мощных гусеничных машин. По той же гусеничной ассоциации в 80-х возникло слово «луноходы» для обозначения несуразно громоздких зимних сапог и ботинок. Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (М., 1992) определяет «ЧТЗ» как «рабочие ботинки на толстой резиновой подошве» (с. 283). Однако, по А. С., обувь зэков, в частности «ЧТЗ», выглядит совершенно иначе: «А на ногах – испытанные русские лапти, только онучей хороших к ним нет. Или кусок автопокрышки, привязанный прямо к босой ноге проволокой, электрическим шнуром. (У горя и догадки…) Если этот кусок покрышки схвачен проволочками в лодочную обутку – то вот и знаменитое „ЧТЗ“ (Челябинский тракторный завод)».[46]
…в Усть-Ижме… – Усть-Ижма – лагерь при впадении Ижмы в Печору (Коми АССР), менее чем в полутораста километрах от Северного полярного круга. Шухов не раз ещё вспомнит этот лагерь. Да и Тюрин укажет на него: «…одну из тех девочек я потом на Печоре отблагодарил…» (с. 64).
Бендеровец… – Правильно: бандеровец – от фамилии Степана Андреевича Бандеры (1908–1959), руководителя ОУН (Организации украинских националистов) с 1940 г., узника концлагеря Заксенхаузен в 1941–1944 гг.
В летошнем году… – Буквально: в прошлом году. Здесь: прошлый раз. Из января 1951 г. так по привычке говорится о позапрошлом годе.
А в дежурке сидел фельдшер – молодой парень Коля Вдовушкин, за чистым столиком, в свеженьком белом халате – и что-то писал. – Из письма Н. М. Боровкова (Астрахань), послужившего прообразом Коли Вдовушкина, автору рассказа: «Взволнованно, не отрываясь прочитал я „Один день Ивана Денисовича“. Как всё верно, правдиво! Я тоже был в Экибастузе, помню Вас, Александр. Буйновский – это Бурковский, Цезарь – Гроссман; и другие – все ожили в памяти. Сейчас кончаю мединститут. Хочу быть психиатром. И стихи иногда пишу, люблю поэзию. Узнал себя в Николае Вдовушкине, описанном Вами. Ещё раз спасибо за „увековечивание того времени“».[47]
«А сейчас стали возникать люди, узнавшие себя в повести, – рассказывал А. С. – Лакшину. – Кавторанг Буйновский – это Бурковский, он служит в Ленинграде. Начальник Особлага, описанного в „Иване Денисовиче“, работает сторожем в „Гастрономе“. Жалуется, что его обижают, приходит к своим бывшим зэкам с четвертинкой – поговорить о жизни».[48]
«Заходил в редакцию Лёва Гроссман, – записал в дневнике Лакшин 28 августа 1964 г. – Хочет снимать документальный фильм о Твардовском, мечтает о кадрах, где он запечатлел бы его с Солженицыным». И дальше: «Как жаль, что Лёве Гроссману (Цезарю Марковичу у Солженицына) не удалось осуществить свой замысел – снять Твардовского в редакции».[49] А ещё 3 августа в дневник занесено: «Лёва Гроссман, кинорежиссёр, изображённый в „Иване Денисовиче“, – единственный, кто, вопреки опасениям Солженицына, не обижен на него».[50] 4 февраля 1964 г. автор рассказа писал Лакшину: «И хотя перед прототипом Цезаря мне по-человечески несколько неловко, но что делать? Amicus Plato…»[51]
Прототипу кавторанга Буйновского, Борису Васильевичу Бурковскому, в то время начальнику филиала Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора», была посвящена статья В. Паллона «Здравствуйте, кавторанг» («Известия», 14 января 1964 г.). «Я расспрашиваю Бурковского о персонажах повести „Один день Ивана Денисовича“, – пишет автор статьи. – Он говорит о том, что некоторые, как, например, бригадир Тюрин, сам он, Буйновский-Бурковский, кинорежиссёр Цезарь Маркович, баптист Алёша, дневальный лагерной столовой, очень напоминают конкретных людей. Другие – в меньшей степени. Заключённого, который послужил прототипом Ивана Денисовича, капитан второго ранга не помнит. Должно быть, потому что подобных было много, говорит он. В общем все персонажи повести в той или иной степени – типы собирательные.
– Около четырёх лет я прожил в одном бараке с Солженицыным. Это был хороший товарищ, честный человек. Он был молчалив, не ввязывался в шумные разговоры. Мне запомнилось, что он часто, лёжа на нарах, читал затрёпанный том словаря Даля и записывал что-то в большую тетрадь».
И даже мыши не скребли – всех их повыловил больничный кот, на то поставленный. – «По мерке многих тяжких лагерей, – отмечает А. С., – справедливо упрекнул меня Шаламов: „и что ещё за больничный кот ходит там у вас? Почему его до сих пор не зарезали и не съели?.. И зачем Иван Денисович носит у вас ложку, когда известно, что всё, варимое в лагере, легко съедается жидким через бортик“?».[52] А вот, судя по «Запискам из Мёртвого дома», в каторжном остроге, где сидел Ф. М. Достоевский, «ходили гуси (!!) – и арестанты не сворачивали им голов».[53]
…Шухов вспомнил медсанбат на реке Ловать… – На Ловати воевал и разведывательный артдивизион А. С. Ловать упоминается в рассказе «Желябугские Выселки»: «На Северо-Западном, в последний час перед ледоходом на Ловати <…>» (с. 453). На страницах романа «В круге первом» об этих местах заходит речь у автобиографического персонажа Глеба Нержина и его товарища Льва Рубина (Льва Копелева). Начинает Рубин:
«– <…> Ты на Северо-Западном помнишь вот здесь за Ловатью, если от Рахлиц на Ново-Свинухово, поюжней Подцепочья – лес?
– Там много лесов. По тот бок Редьи или по этот?
– По этот.
– Ну, знаю».[54]
Ловать упоминается также в поэме «Дороженька» (1948–1953).[55]
«Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или как вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». – Первое соборное послание святого апостола Петра, 4: 15.
Волкового не то что зэки и не то что надзиратели – сам начальник лагеря, говорят, боится. Вот Бог шельму метит, фамильицу дал! – иначе, как волк, Волковой не смотрит. Тёмный, да длинный, да насупленный – и носится быстро. – Говорящей фамилией А. С. награждает начальника режима, закрепляя своё наблюдение над фамилиями гебистов: «Вот их фамилии – как будто по фамилиям их на работу берут! Например, в кемеровском ОблГБ в начале 50-х годов: прокурор Трутнев, начальник следственного отдела майор Шкуркин, его заместитель подполковник Баландин, у них следователь Скорохватов. Ведь не придумаешь! Это сразу все вместе! (О Волкопялове и Грабищенке уж я не повторяю.) Совсем ли ничего не отражается в людских фамилиях и таком сгущении их?»[56] Сюда можно добавить прокурора Кривову. «…Да кто им фамилии выбирает!» – восклицает писатель.[57]
Ознакомительная версия.