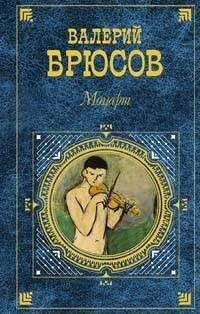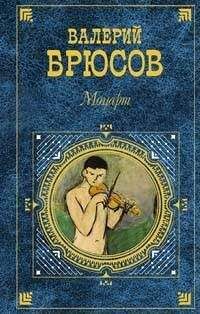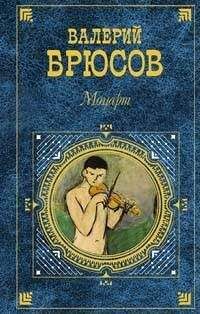– Этого-то я и боялся! – с отчаянием воскликнул старик, – боялся, что именно так вы мне ответите. Но я умоляю, я заклинаю вас исполнить мою просьбу, чего бы это вам ни стоило, хотя бы... хотя бы пришлось для того временно бросить раскопки!
Бувери убеждал, упрашивал, плакал. В конце концов, чтобы успокоить старика, Дютрейль должен был согласиться, дать ему честное слово и даже клятву. Завещание было подписано.
На другой день, еще до восхода солнца, работы возобновились. Приступили к раскопкам той роскошной усыпальницы, на которую натолкнулись накануне. По-видимому, финикийское поселение оказывалось гораздо более значительным, чем полагали раньше. По крайней мере, раскапываемая усыпальница явно принадлежала семье богатой и сильной, несколько поколений которой не только провело всю жизнь под негостеприимным небом экваториальной Африки, но здесь же приготовило себе и место вечного упокоения. Гробница была сложена из массивных глыб камня и украшена барельефами. Дютрейль неутомимо распоряжался работами и часто сам брал заступ в руки.
С большим трудом удалось открыть вход в гробницу: огромную железную дверь, которую, несмотря на 28 столетий, прошедших с тех пор, как ее заперли, пришлось осторожно ломать ломами. Пробив, наконец, себе проход и дав свежему воздуху проникнуть в глубь гробницы, Дютрейль и Бувери с факелами в руках сами вошли туда. Картина, представившаяся их взорам, могла свести с ума археологов. Усыпальница оказалась совершенно нетронутой. Посредине возвышались каменные гроба на каменных же подставках в форме фантастических чудовищ, а кругом было расставлено множество предметов домашнего обихода, характерные двурогие лампочки, военные снаряды, фигурки богов и другие вещи, назначение которых трудно было определить сразу.
Но самое поразительное было то, что внутренние стены гробницы почти сплошь были покрыты живописью и надписями. От притока свежего воздуха цвета картин, как то бывает всегда, быстро потускнели, но надписи, выписанные каким-то черным составом и даже на некоторую глубину врезанные в камень, казались только вчера сделанными. Это особенно восхищало Дютрейля, так как финикийских надписей до сих пор известно очень немного. Он уже мечтал, что здесь могут обнаружиться совершенно новые исторические данные – известия, например, о сношениях Финикии с Атлантидой, о чем племянник Шлиммана прочитал в финикийской надписи на сосуде, найденном в Сирии.
Несмотря на палящий зной, Дютрейль озаботился перенести все найденные вещи в музей и не успокоился, пока последняя двурогая лампочка не была помещена в надежное место. После того, тщательно заперев вход в гробницу, молодой ученый прилег отдохнуть, но, едва жар начал чуть-чуть спадать, был уже вновь за работой. Он занялся списыванием и разбором надписей – дело, которое, при всем его великолепном знании языка, было весьма сложным. До вечера Дютрейлю удалось списать лишь незначительную часть надписей и еще меньшее число, хотя бы приблизительно, дешифровать. Ночью, сидя в своей хижине, при скудном свете лампы, Дютрейль делился своими открытиями с Бувери и просил его помощи в толковании разных трудных выражений. Ряд надписей был явно простой генеалогией, восходящей до 10 и 12 колена. Но одна содержала заклинание против нарушителей могильного покоя. Вот как, приблизительно, толковал ее Дютрейль:
Именем Астарты, нисходившей во Ад, да будет мир погребенному мне, Элули, сыну Элули. Да лежу я здесь тысячу лет и еще вечность. Родных и близких, соотечественников и чужеземцев, друга и врага заклинаю я: да не коснешься ни праха моего, ни золота моего, ни вещей, данных мне. Если люди будут склонять тебя, не слушай их. Ты же, дерзкий, читающий эти слова, которые ни один человеческий глаз не должен бы уже видеть, да будешь проклят и на земле, и в недрах ее, где не едят и не пьют. Да не получишь места упокоения у Рефаимов, да не будешь погребен в гробнице, да не имеешь ни сына, ни потомства. Да не будет тебе солнце теплым, да не держит тебя дерево на воде, да не отойдет от тебя ни на час демон мучительства, безобразный, беспощадный, не знающий слабости.
Надпись еще продолжалась, но конец ее был непонятен. Бувери выслушал перевод надписи в глубоком молчании и не захотел принять участия в дешифровке ее окончания. Сославшись на нездоровье, он удалился на свою половину за дощатую перегородку. Но Дютрейль еще долго просидел над своими записками, справляясь с привезенными книгами, думая над каждым выражением и стараясь понять все изгибы мысли писавшего.
Поздно ночью, когда Дютрейль уже спал сном глубоко утомленного человека, его вдруг разбудил Бувери. Старик зажег свечу и при ее свете казался еще бледнее, чем обыкновенно. Волоса его были всклокочены, весь вид обличал крайнюю степень ужаса.
– Что с вами, Бувери? – спросил Дютрейль. – Вы нездоровы?
Как ни трудно было бороться со сном, Дютрейль сделал над собой усилие, помня, что его старый друг тяжело болен. Но Бувери, не отвечая на вопрос, сам спросил задыхающимся голосом:
– Вы тоже его видели?
– Кого я мог видеть? – возразил Дютрейль. – Я так устаю за день, что сплю без снов.
– Это не был сон, – печально проговорил Бувери, – и я видел, как от меня он прошел к вам.
– Кто?
– Тот финикиец, могилу которого мы раскопали.
– Вы бредите, милый Бувери, – сказал Дютрейль, – у вас жар, я сейчас приготовлю для вас прием лекарства.
– Я не брежу, – упрямо возразил старик, – я хорошо рассмотрел этого человека. Он был бритый, без бороды, но лицо в морщинах, одет, как воин; он стал у моей постели, посмотрел на меня грозно и сказал...
– Постойте, – прервал Дютрейль, стараясь вернуть друга к рассудительности, – на каком же языке он с вами заговорил?
– По-финикийски. Не знаю, может быть, в другое время я и не понял бы финикийской речи, но в ту минуту понимал все, от слова до слова.
– Что же вам сказало привидение?
– Он мне сказал: «Я – Элули, сын Элули, тот, чей мирный покой вы, чужеземцы, нарушили, не побоясь заклятия. За то я отомщу тебе, моя участь постигнет и тебя. И твой прах не успокоится в родной земле, но станет добычей шакалов и гиен. И я буду мучить тебя во сне и наяву, всю твою жизнь и после жизни, и до скончания веков». Это он сказал и ушел к вам, и я думал, что вы тоже его видели.
Дютрейль не сомневался, что с его другом – болезненный припадок, легко объяснимый влиянием зноя, постоянными мыслями о смерти и волнением после их замечательного открытия. Желая образумить старика, Дютрейль не стал ему напоминать, что привидения – обман зрения, но постарался объяснить всю неправдоподобность данного видения.
– Мы раскопали, – говорил Дютрейль, – могилу не для того, чтобы оскорбить лежащий там прах или чтобы поживиться собранным там добром, но из бескорыстных научных целей. Элули, сыну Элули, нет причин на нас гневаться. Наука воскрешает прошлое, и мы, восстановляя финикийскую древность, тем самым воскрешаем и этого Элули. Старый финикиец скорее должен быть благодарен нам за то, что мы вызываем его из забвения: кто без нас, в наши дни, знал бы, что за тысячу лет до Рождества Христова жил в Африке некий Элули, сын Элули?
Дютрейль говорил со стариком, как с больным ребенком. Сначала Бувери не слушал никаких доводов и требовал явно невозможного: чтобы все вещи были немедленно отнесены обратно в гробницу и сама она опять засыпана. Понемногу, однако, стал уступать и согласился отложить решение вопроса до утра. После того Дютрейль собственноручно уложил старика в постель, закутал одеялами, так как у него начался озноб, и сидел около, пока больной не уснул тяжелым, беспокойным сном. «Как разрушительно действует болезнь даже на самые ясные умы!» – грустно думал Дютрейль.
На другой день диалектика и очевидность доводов Дютрейля одержали верх, Бувери согласился, что его видение было лихорадочным бредом. Согласился и с тем, что вновь засыпать раскопанную гробницу было бы преступлением перед наукой и человечеством. Работы продолжались с прежним усердием. И в усыпальнице Элули, и в соседних могилах было найдено еще много драгоценных для историка предметов. Друзья ждали только прихода парохода с необходимыми инструментами и рабочими-европейцами, чтобы приступить к раскопкам города.
Однако здоровье Бувери не поправлялось. Лихорадка не оставляла его; по ночам он часто кричал и вскакивал в безумном ужасе. Однажды старик признался, что опять видел перед собой финикийца Элули. Дютрейль счел полезным вышутить своего друга, и Бувери более не заговаривал о своих видениях. Но все же он таял с каждым днем и даже стал проявлять признаки психического расстройства: боялся темноты и ночи, не хотел входить в музей, а потом и вовсе устранился от раскопок. Дютрейль покачивал головой и все с большим нетерпением ждал прибытия парохода, надеясь, что морское путешествие и возвращение во Францию принесет старику пользу.