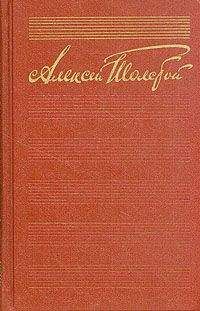Он пыхнул три раза трубкой. На фоне окна его профиль был острый и надменный. Егор Иванович спросил:
- Ты живешь один?
- Да. Женщины задают мне этот вопрос каждый день. У меня есть двадцать скверных привычек. Для чего я должен иметь их сорок. Жить одному холодно, но чисто. В сумерки я гляжу, как загораются огни города, и мне грустно и хорошо. Вместо этого я почему-то должен отравлять жизнь другому существу. Я не женюсь, потому что не хочу сидеть непрерывно в грязной тарелке от только что съеденной еды..
- Я все-таки не так думаю. Если бы я полюбил, я бы устроил свою жизнь лучше и чище, чем она есть сейчас, - ответил Егор Иванович, присаживаясь поближе, - все дело в том, как полюбить! Вот у меня есть большой друг, хорошая женщина, простая, грустная, необычайно высокой души. А я знаю сойдись я с ней опять, получится плохо, скудно. Все дело, как полюбить! Белокопытов усмехнулся, оглянул Егора Ивановича всего, с кудрявой головы его на широких плечах до косолапых ступней, и засмеялся коротко.
- Ты чернозем и так далее, - сказал он, - женщинам будешь нравиться, если сам не напортишь дела. Но суть не в женщинах. Честолюбие, известность, деньги, слава. И главное - такое состояние, когда ты сам в последнем восхищении от себя. Понял?
- Понял, - сказал Егор Иванович. - Все это, конечно, хорошо, если мне это нужно. А у меня бывает так, что ничего не нужно. Опротивеет все, и ничего не хочется. Уж на что повесть моя дорога, а и то думаю: ну примут, напечатают и расхвалят, а еще что? Разве это меня насытит?
Белокопытов вынул трубку, выколотил и, заложив руки в бархатные штаны, остановился перед Егором Ивановичем.
- Ты должен был сказать это не сейчас и не мне одному, а после прочтения твоей повести, при всех, и мысль развить гораздо подробнее. Тогда твои слова произведут впечатление.
- Господи помилуй, я на самом деле так думаю. А вовсе не для впечатления.
- Ты пессимист, - сказал Белокопытов, - при этом мягкотелый, рыхлый славянин. Стержень твоих идей - все смертно, тленно, непрочно. Но горе в том, Егор, что подобного направления держится романист Норкин. Он пока наш враг. Ты должен выбрать себе другую позицию, если хочешь успеха. Мы вместе подумаем с тобой на досуге. Кстати, знаешь ли ты, что такое Россия?
Но в это время звякнул звоночек. Белокопытов повернулся на каблуках и крикнул опять, что дверь не заперта. Егор Иванович поднялся и стал глядеть в окно на мерцающие пунктиры огней, то прямых, то изломанных, то полудугой, на сияющие вдалеке электрические солнца вдоль набережной. В прихожей в это время Белокопытов спросил негромко и встревоженно:
- Ну что?
- Ну что, что? - ответил злой, деревянный голос,
- Придет, я спрашиваю?
- А я почем знаю.
- Ты ее видел?
- Сейчас от нее, видел. - Что же она сказала?
- Сказала, что придет, а может быть, не придет. Белокопытов помолчал, затем проговорил со страшной досадой:
- Как же ты не понимаешь, что если не она, то все к черту!
- А я руки ей свяжу? Она ведьма, а не баба. И не верю я в твои махинации. Не держи меня, пожалуйста, за пиджак.
В мастерскую вслед за Белокопытовым вошел небольшой человек со злым и скуластым лицом. От черных усиков и острой бородки оно казалось очень бледным. Он подал, как деревянную, прямую руку, сказал: "Сатурнов", громко высморкался и сел у среднего стола на пуфчик, оглядывая ликеры.
Белокопытов, подмигнув на него, проговорил уже иным, простецким голосом:
- Хорошенько посмотри на Александра Алексеевича, поучись! Человек прямой, суровый и фанатик в искусстве. Мы друзья, хотя противоположны, полярны. А мы тут с Егором Ивановичем в философию залезли, добрались до России.
- Перестань! - ответил Сатурнов и сморщился до невозможности; черная бородка полезла у него на сторону, а татарские усики вкось. - Дурака корчишь. Философия твоя - к бабам ездить.
Белокопытов сразу побледнел, сжал маленький рот.
- У всякого свой стиль, - отчеканил он и обратился к Егору Ивановичу: - О России мы еще поговорим, но если ты попал к нам, помни главное: вся Россия - это "что", а мы - это "как". Мы эстеты, формовщики, стилисты, красочники. Вне нас формы нет, хаос...
Он уже сердился и настаивал, но договорить ему опять не пришлось. В прихожей раздался кашель, и вошли трое юношей. Один с детскими щеками, вздернутым носиком и челкой на лбу, одетый, как картинка, другой кривоплечий с перекошенным и унылым лицом и нечесаный, третий же был высок, в застегнутом сюртуке с хризантемой на шелковом отвороте, и походил на Уайльда. Все трое были из кружка "Зигзаги", из тех еще никому не известных поэтов и художников, которые первые поддержали Белокопытова на редакционном заседании "Дэлоса".
Молодой человек с челкой и взлохмаченный молодой человек только поклонились, похожий на Уайльда сухо пожал руки, и все трое сели в угол на диванчик. Белокопытов зажег под никелевым чайником спиртовку и хлопотал с посудой. Сатурнов, облизнув усы от ликера, побарабанил ногтями и проговорил, ни к кому не обращаясь:
- Много сволочи развелось, сделай одолжение! Он очень начинал нравиться Егору Ивановичу. От присутствия его в комнате все речи Белокопытова казались милой болтовней, "Зигзаги", на диване, только смешными, а вся суетливо убранная комната - бонбоньеркой. В маленьком сухом Сатурнове была крепость и неповоротливость корня. Егор Иванович чуял его нюхом, как собаки слышат запах родного дыма.
Вошли Волгин и толстый юноша Поливанский. Они оба задержали руку Егора Ивановича в своей и поглядели на него насквозь; после этого занялись чаем.
Белокопытов вертелся на каблучках, говорил одним: "вам чаю", другим: "вам ликеру", третьим: "нет, нет, вам только грушу", - определяя вкус каждого вдохновенно, и все более жеманился, поднося платочек к губам и векам, влажным от пота. С ним не спорили и ели что дают.
Поэт Горин-Савельев и новеллист Коржевский пришли вместе и еще с порога начали болтать всякий вздор. Поэт схватил Белокопытова под руку и зашептал на ухо милую сплетню, прерывая рассказ пронзительным и неживым смехом, при этом откидывал голову и поправлял височки. В прихожей послышалось густое сопение, и глубокий, как из чрева, голос произнес:
- К вам можно?
Вошел Полынов, как всегда в велосипедном костюме. Его большие волосы и борода растрепались от ветра. Зелеными глазами из-за пенсне он оглядывал присутствующих весело и с наслаждением, затем увидел "Зигзагов", замер, наклонил голову и стал похож на большую собаку. Белокопытов воскликнул громко:
- Я предлагаю подождать с чтением до полуночи, Я жду одного замечательного человека.
- Бабу, - проворчал Сатурнов.
- Кого? Женщину? Болтунову? Скороговоркину? Мадмазель Злючку? Я боюсь, - затараторил Горин-Савельев, весело хохоча, тогда как глаза его оставались безучастными и даже тоскливыми.
- Ведьму, - подтвердил Сатурнов.
- Представь, я ее никогда не видал; говорят, замечательная женщина? сказал толстяк Поливанский другу своему Волгину, который, приуныв, сидел у окошка.
- Ее преувеличивают и раздувают. А сама по себе ничего. Петроградское порождение, - ответил Волгин, подумал, вынул книжечку и записал: "Как на болоте растут ядовитые лютики, так же точно Петроград порождает людей с отравленной и злой кровью".
Написав, он поставил сбоку нотабене, повеселел и закурил папироску.
Полынов, ходя неслышно, как кот, между гостей, подобрался сбоку к Егору Ивановичу и спросил его неожиданно и необычайно мягко:
- Вы давно занимаетесь литературой?
Егор Иванович вздрогнул. От бархатного глухого жилета критика пахло духами, книжной пылью и едой.
- Нет, это моя первая серьезная вещь. Полынов продолжал его разглядывать так, точно
Абозов был в эту минуту самой интересной штукой на всем свете, и проговорил еще более вкрадчиво:
- У вас очень любопытное лицо. Можно посмотреть вашу ладонь?
Егор Иванович не знал, как ему на это ответить, смутился, тщательно обтер платком большую свою руку и молча сунул ее. Полынову, который сразу, вдохновясь, начал что-то говорить о бугре Сатурна. В это время ударили по старинным клавишам клавикордов, и дребезжащий, но очень музыкальный голосок Горина-Савельева запел:
Дева хочет незабудок,
Бедный юноша молчит.
Ах, зимою незабудки
Расцвели бы на снегу!
Гости затихли. На крышке клавикорд дымила оставленная папироска. Мигала, широко разгоревшись, свеча в канделябре.
Полынов, продолжая шептать над ладонью, щекотал ее бородой. Вдруг Сатурнов, сильно, должно быть, охмелевший, еще более бледный, бросил со своего места мандарином в Горина-Савельева и крикнул:
- На!
Поэт вскочил, теребя пуговицу, повторяя:
- Я не позволю. Я не могу. Я обижен.
Его стали успокаивать, он ушел за занавеску и затих. Гости потребовали чтения. Полынов сказал: