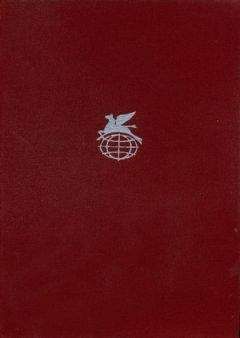— Бырь пришёл! — кричали они, завидя меня и поспешно вооружаясь. — Лупи его!
Я не знал, что такое «бырь», и прозвище не обижало меня, но было приятно отбиваться одному против многих, приятно видеть, когда метко брошенный тобою камень заставляет врага бежать, прятаться в кусты. Велись эти сражения беззлобно, кончались почти безобидно.
Грамота давалась мне легко, дедушка смотрел на меня все внимательнее и всё реже сёк, хотя, по моим соображениям, сечь меня следовало чаще прежнего: становясь взрослее и бойчей, я гораздо чаще стал нарушать дедовы правила и наказы, а он только ругался да замахивался на меня.
Мне подумалось, что, пожалуй, раньше-то он меня напрасно бил, и я однажды сказал ему это.
Легким толчком в подбородок он приподнял голову мою и, мигая, протянул:
— Чего-о?
И дробно засмеялся, говоря:
— Ах ты, еретик! Да как ты можешь сосчитать, сколько тебя сечь надобно! Кто может знать это, кроме меня? Сгинь, пошел!
Но тотчас же схватил меня за плечо и снова, заглянув в глаза, спросил:
— Хитер ты али простодушен, а?
— Не знаю…
— Не знаешь? Ну, так я тебе скажу: будь хитер, это лучше, а простодушность — та же глупость, понял? Баран простодушен. Запомни! Айда, гуляй…
Вскоре я уже читал по складам Псалтырь; обыкновенно этим занимались после вечернего чая, и каждый раз я должен был прочитать псалом.
— Буки-люди-аз-ла-бла; живе-те-иже-же блаже; наш-ер-блажен, — выговаривал я, водя указкой по странице, и от скуки спрашивал:
— Блажен муж, — это дядя Яков?
— Вот я тресну тебя по затылку, ты и поймешь, кто блажен муж! — сердито фыркая, говорил дед, но я чувствовал, что он сердится только по привычке, для порядка.
И почти никогда не ошибался: через минуту дед, видимо, забыв обо мне, ворчал:
— Н-да, по игре да песням он — царь Давид, а по делам — Авессалом ядовит! Песнотворец, словотёр, балагур… Эх вы-и! «Скакаше, играя веселыми ногами», а далеко доскачете? Вот — далеко ли?
Я переставал читать, прислушиваясь, поглядывая в его хмурое, озабоченное лицо; глаза его, прищурясь, смотрели куда-то через меня, в них светилось грустное, тёплое чувство, и я уже знал, что сейчас обычная суровость деда тает в нём. Он дробно стучал тонкими пальцами по столу, блестели окрашенные ногти, шевелились золотые брови.
— Дедушка!
— Ась?
— Расскажите что-нибудь.
— А ты читай, ленивый мужик! — ворчливо говорил он, точно проснувшись, протирая пальцами глаза. — Побасенки любишь, а Псалтырь не любишь…
Но я подозревал, что он и сам любит побасенки больше Псалтыря; он знал его почти весь на память, прочитывая, по обету, каждый вечер, перед сном, кафизму вслух и так, как дьячки в церкви читают часослов.
Я усердно просил его, и старик, становясь все мягче, уступал мне.
— Ну, ин ладно! Псалтырь навсегда с тобой останется, а мне скоро к богу на суд идти…
Отвалившись на вышитую шерстями спинку старинного кресла и всё плотнее прижимаясь к ней, вскинув голову, глядя в потолок, он тихо и задумчиво рассказывал про старину, про своего отца: однажды приехали в Балахну разбойники грабить купца Заева, дедов отец бросился на колокольню бить набат, а разбойники настигли его, порубили саблями и сбросили вниз из-под колоколов.
— Я о ту пору мал ребенок был, дела этого не видел, не помню; помнить себя я начал от француза, в двенадцатом году, мне как раз двенадцать лет минуло. Пригнали тогда в Балахну нашу десятка три пленников; все народ сухонькой, мелкой; одеты кто в чем, хуже нищей братии, дрожат, а которые и поморожены, стоять не в силе. Мужики хотели было насмерть перебить их, да конвой не дал. гарнизонные вступились, — разогнали мужиков по дворам. А после ничего, привыкли все; французы эти — народ ловкой, догадливый; довольно даже весёлые — песни, бывало, поют. Из Нижнего баре приезжали на тройках глядеть пленных; приедут и одни ругают, кулаками французам грозят, бивали даже; другие — разговаривают мило на ихнем языке, денег дают и всякой хурды-мурды теплой. А один барин-старичок закрыл лицо руками и заплакал: вконец — говорит — погубил француза злодей Бонапарт! Вот, видишь, как: русский был, и даже барин, а добрый: чужой народ пожалел…
С минуту он молчит, закрыв глаза, приглаживая ладонями волоса, потом продолжает, будя прошлое с осторожностью.
— Зима, метель метет по улице, мороз избы жмет, а они, французы, бегут, бывало, под окошко наше, к матери, — она калачи пекла да продавала, — стучат в стекло, кричат, прыгают, горячих калачей просят. Мать в избу-то не пускала их, а в окно сунет калач, так француз схватит да за пазуху его, с пылу, горячий — прямо к телу, к сердцу; уж как они терпели это — нельзя понять! Многие поумирали от холода, они — люди тёплой стороны, мороз им непривычен. У нас в бане, на огороде, двое жили, офицер с денщиком Мироном; офицер был длинный, худущий, кости да кожа, в салопе бабьем ходил, так салоп по колени ему. Очень ласков был и пьяница; мать моя тихонько пиво варила-продавала, так он купит, напьется и песни поет. Научился по-нашему, лопочет, бывало: ваш сторона нет белый, он — чёрный, злой! Плохо говорил, а понять можно, верно это: верховые края наши неласковы, ниже-то во Волге теплей земля, а по-за Каспием будто и вовсе снегу не бывает. В это можно поверить: ни в Евангелии, ни в деяниях, ни того паче во Псалтыри про снег, про зиму не упоминается, а места жития Христова в той стороне… Вот Псалтырь кончим, начну я с тобой Евангелие читать.
Он снова молчит, точно задремал; думает о чем-то, смотрит в окно, скосив глаза, маленький и острый весь.
— Рассказывайте, — напоминаю я тихонько.
— Ну, вот, — вздрогнув, начинает он, — французы значит! Тоже люди, не хуже нас, грешных. Бывало, матери-то кричат: мадама, мадама, — это стало быть, моя дама, барыня моя, — а барыня-то из лабаза на себе мешок муки носила по пяти пудов весу. Силища была у неё не женская, до двадцати годов меня за волосья трясла очень легко, а в двадцать-то годов я сам неплох был. А денщик этот, Мирон, лошадей любил: ходит по дворам и знаками просит, дали бы ему лошадь почистить! Сначала боялись: испортит, враг; а после сами мужики стали звать его: айда, Мирон! Он усмехнётся, наклонит голову и быком идет. Рыжий был даже докрасна, носатый, толстогубый. Очень хорошо ходил за лошадьми и умел чудесно лечить их; после здесь, в Нижнем, коновалом был, да сошел с ума, и забили его пожарные до смерти. А офицер к весне чахнуть начал и в день Николы Вешнего помер тихо: сидел, задумавшись, в бане под окном да так и скончался, высунув голову на волю. Мне его жалко было, я даже поплакал тихонько о нём; нежным он был, возьмёт меня за уши и говорит ласково про что-то свое, и непонятно, а хорошо! Человечью ласку на базаре не купишь. Стал было он своим словам учить меня, да мать запретила, даже к попу водила меня, а поп высечь велел и на офицера жаловался. Тогда, брат, жили строго, тебе уж этого не испытать, за тебя другими обиды испытаны, и ты это запомни! Вот я, примерно, я такое испытал…
Стемнело. В сумраке дед странно увеличился; глаза его светятся, точно у кота. Обо всем он говорит негромко, осторожно, задумчиво, а про себя — горячо, быстро и хвалебно. Мне не нравится, когда он говорит о себе, не нравятся его постоянные приказы:
— Запомни! Ты это запомни!
Многое из того, что он рассказывал, не хотелось помнить, но оно и без приказаний деда насильно вторгалось в память болезненной занозой. Он никогда не рассказывал сказок, а всё только бывалое, и я заметил, что он не любит вопросов; поэтому я настойчиво расспрашивал его:
— А кто лучше: французы или русские?
— Ну, как это знать? Я ведь не видал, каково французы у себя дома живут, — сердито ворчит он и добавляет:
— В своей норе и хорёк хорош…
— А русские хорошие?
— Со всячинкой. При помещиках лучше были; кованый был народ. А теперь вот все на воле — ни хлеба, ни соли! Баре, конечно, немилостивы, зато у них разума больше накоплено; не про всех это скажешь, но коли барин хорош, так уж залюбуешься! А иной и барин, да дурак, как мешок, — что в него сунут, то и несёт. Скорлупы у нас много; взглянешь — человек, а узнаешь — скорлупа одна, ядра-то нет, съедено. Надо бы нас учить, ум точить, а точила тоже нет настоящего…
— Русские сильные?
— Есть силачи, да не в силе дело — в ловкости; силы сколько ни имей, а лошадь всё сильней.
— А зачем французы нас воевали?
— Ну, война — дело царское, нам это недоступно понять!
Но на мой вопрос, кто таков был Бонапарт, дед памятно ответил:
— Был он лихой человек, хотел весь мир повоевать, и чтобы после того все одинаково жили, ни господ, ни чиновников не надо, а просто: живи без сословия! Имена только разные, а права одни для всех. И вера одна. Конечно, это глупость: только раков нельзя различить, а рыба — вся разная: осётр сому не товарищ, стерлядь селедке не подруга. Бонапарты эти и у нас бывали — Разин Степан Тимофеев, Пугач Емельян Иванов; я те про них после скажу…