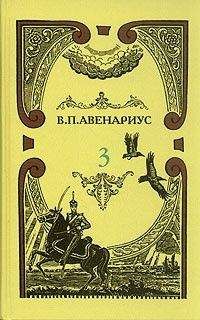Ластов слушал ее с улыбкой.
— А скажите, пожалуйста, другие слушательницы так же засыпали под снотворным обаянием лекции?
— То-то, что нет. Это меня и удивило. Одни сидели как вкопанные, с разинутыми ртами, точно проглотить хотели профессора; другие даже записывали! Я не иначе могла объяснить себе такую пассивность, как долгой привычкой: ведь и люди, нюхающие табак, не чихают более от него. Что меня, однако, более всего шокировало у вас, так это то… Не знаю, говорить ли?
— Говорите; вы ведь эмансипированная, если не ошибаюсь?
— Да… Так, видите ли, мне было и странно, и досадно, что студенты ни малейшего внимания на девиц не обращают, точно их там и нет.
— Да мы этим гордимся! — возразил с некоторою горячностью Ластов. — Чтобы девицы ничуть не были стеснены в своих занятиях, мы нарочно их не замечаем.
— Как вы, милостивый государь, смешно рассуждаете. Если девица удостаивает ваши лекции своим посещением, то первый долг ваш, я думаю, как galants cavaliers, показывать, по крайней мере, глубокое внимание.
— Вот как! Вы, Саломонида Алексеевна, хотите, видно, сделать из университета нечто вроде Летнего сада с его майским парадом невест? Покорно благодарим за незаслуженную честь! Если девушка жаждет просвещения — мы не помеха ей, пусть посещает наши лекции — но и только.
— Очень нужно нам ваше просвещение! Истинное просвещение заключается не в том, чтобы знать, когда жили древние новгородцы, как назвать по имени и фамилии всякую букашку; это дело особой касты чернорабочих — касты ученых. Да, господа университетские, вы — черный народ. Истинно просвещенный пользуется вашими открытиями, пользуется железными дорогами, телеграфами и т. д., но сам не стает марать себе рук унизительным трудом.
— Никакой труд не унизителен, — отвечал Ластов, — менее всего умственный. Это уже до того общепризнано, столько раз перевторено, что отзывается даже общим местом. Так, по-вашему, истинно просвещенные те, которые сидят сложа руки, жар чужими руками загребают, то есть паразиты? Браво!
— Вы не дали досказать мне! Эмансипация прекрасного пола — вот что главным образом характеризует истинное просвещение. Свобода во всем. Прежде, бывало, ни за что не дадут в руки девиц Поль де Кока…
— А вам дают? Моничка расхохоталась.
— Qu'il est naif [67]! Я сама беру его. Отчего же и не читать Поль де Кока? Вслух прочитывать, конечно, — un peu genant, ну, а про себя…
— Пол де Кок — писатель очень хороший, — заметил Ластов, — рисует прекрасно парижский быт, но все-таки я того мнения, что чтение его в ваши лета более вредно, чем полезно: юношество имеет обыкновение вычитывать из романов именно то, чего не следует.
— Ну да! Послушайте, ведь вы уважаете Лизу, как вашу же студентку?
— Положим, а что?
— Да то, что она и Наденьке позволяет читать, что той вздумается.
— Не может быть!
— Я же вам говорю; что мне за выгода лгать?
— Надо переговорить об этом серьезно с Лизаветой Николавной.
— Можете.
Моничка ускорила шаги, чтобы поравняться с Куницыным, который в это время с особенным жаром объяснял что-то Наденьке; но осторожный правовед сделал вид, будто не слышит вопроса, с которым обратилась к нему Моничка; чтобы не возбудить общего внимания, последняя нашлась в необходимости воротиться к своему буке-"университанту".
— Если бы вы знали, m-r Ластов, какой вы скучный — ну, просто Костомаров!
Ластов рассмеялся.
— Дай-то Бог; очень рад был бы.
— Нет, в самом деле, как же, сами согласитесь, ходить с молоденькой девицей и не уметь занять ее?
Ластов зевнул в руку.
— О чем говорить прикажете?
— Мало ли о чем. Если не можете ни о чем другом, так говорите хоть о театре. Часто вы бываете в опере? Говорите, острите, ну!
— Бываю.
— А, скажите, пожалуйста, бываете! Какая же опера более всего нравится вам? Каждое слово приходится выжимать из вас, как из мокрого платка.
— Какая мне опера более всех нравится? Если б я был хвастлив, то сказал бы: "Разумеется, "Дон Жуан!" Но я откровенен и сознаюсь, что и музыку Верди слушаю с большим удовольствием, например, "Трубадура", "Травиату"…
— "Травиату"? Да ведь все наши примадонны толсты, а Травиата умирает от чахотки? Да и декорации в "Травиате" очень незавидны.
— Опять-таки должен сознаться, что ни певицы, играющей Травиату, ни декораций не видел.
— Как не видели? Где же вы сидите?
— А в парадизе, притом на второй скамье. Первая скамья, как известно, искони абонирована, и абонементы эти переходят из рода в род, от отца к сыну, так что нашему брату, постороннему, не родившемуся под счастливой абонементной звездой, приходится удовольствоваться второй скамьей; а с этой ничего не видно, если с опасностью для жизни не перегибаться всем корпусом через головы впереди сидящих. Я сажусь обыкновенно лицом к стене, чтобы не ослепнуть от яркого блеска люстры, висящей перед самым носом, закрываю глаза и обращаюсь весь в ухо.
— Все-таки не понимаю, зачем вы ходите наверх, а не в партер?
— Очень просто: потому, что по скудности финансов не имею доступа в преисподнюю; поневоле взлетишь в высшие сферы.
Моничка посмотрела на молодого человека искоса и сжала иронически губки.
— Вы, как поэт, везде, кажется, взлетаете в высшие сферы.
"Окончательно провалился!" — подумал поэт.
Не более успеха, однако, имел и правовед у гимназистки.
— Поедете вы отсюда в Париж? — спросил он ее по-французски.
— Не думаю, — отвечала она на том же языке. — Сестра пьет сыворотки и, вероятно, придется пробыть здесь все лето. Да в Париж в это время года, я думаю, и не стоит: жарко, душно, как во всяком большом городе; да и вообще туда, кажется, не стоит.
— Ай, ай, m-lle Nadine, какие вы вещи говорите! Париж — центр всемирной цивилизации, всякого прогресса: науки, искусства, высшее салонное образование, всевозможные безобразия наконец — все это сосредоточено в новом Вавилоне, как в оптическом фокусе, и всякого мало-мальски образованного человека влечет туда с неодолимой силой, как магнитная гора в арабской сказке. Приблизится к такой горе на известное расстояние корабль — и все железо корабля: гвозди, обивка и прочее вырывается само собою из стен его и мчится навстречу волшебной горе.
— То-то, — подхватила Наденька, — что когда железные части такого корабля отрывались от него, существенные составные его части, как-то бревна и доски, лишались взаимной связи, распадались, и бедные пассажиры судна погибали в волнах. Молодежь, стремящаяся на всех парусах в Париж, лишается там своих гвоздей и распадается в ничто. Недаром гласит немецкая поговорка: "Nach Paris gehen Narren, davon — kommen Gecken" [68].
Правовед усмехнулся, подбросил себе в глаз стеклышко (в чем достиг настоящей виртуозности) и свысока посмотрел на собеседницу.
— С ваших, m-lle, хорошеньких губ как-то странно слышать столь резкий приговор. Верно, Добролюбова начитались?
— Не скрываю, начиталась.
— Кстати, как вы смотрите на танцы? Добролюбов по своей неуклюжести, не танцевал, — поклонники его ненавидят танцы.
— Видите, m-r Куницын, я люблю побесноваться, покружиться; как-то особенно весело, точно улетаешь куда-то; но все-таки танцы — ребячество, глупость. Лиза тоже не танцует.
Куницын расхохотался.
— Потому и глупость, что m-lle Lise не танцует? Она для вас авторитет? В настоящее время, m-lle, авторитеты — нуль, всяки имеет обо всем свое собственное мнение.
— Да и я же высказываю свое собственное мнение! Ну, сами посудите: в огромный, празднично освещенный зал сходится в пух и прах разряженная толпа — для чего, спрашивается? Чтобы попрыгать, как марионетки, под такт музыки! Неужели это не глупо?
— А, нет, m-lle, в некоторых отношениях бальная музыка решительно незаменима. Она заглушает задушевный разговор, так что изливайся перед любимым существом сколько угодно — никто не услышит. Потом она дает случая обнять это любимое существо, прижать от глубины души к сердцу, что во всяком другом случае было бы преступлением.
— Все это вздор! — перебила Наденька. — Вы говорите про любимое существо, а любовь — нелепость!
— Вот как! А не обожали ли вы сами в гимназии кого-нибудь из учителей?
— Были у нас глупенькие, которые обожали. Я слишком умненькая для того.
— Погодите немножко, придет и ваша пора, будете сами глупенькой.
— А вы уже глупенький?
— К вашим услугам.
— То-то я заметила, — Наденька засмеялась.
— Смейтесь, смейтесь! Вспомяните мое слово: не успеете оглянуться, как окажетесь глупенькой.
— Перестаньте вздор нести, — серьезно заметила гимназистка. — В сентиментальный период романтиков любовь действительно была в моде; нынче она брошена, как шляпка старого фасона.