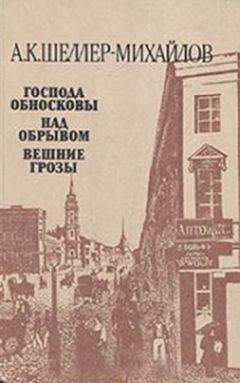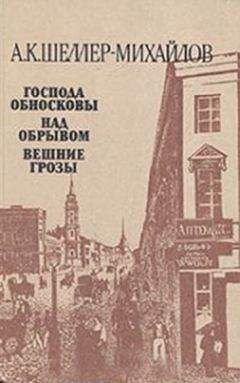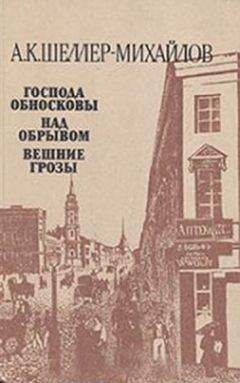— Что бы ты сказал, старина, если бы заглянул в мою душу? — проносилось в голове Егора Александровича.
Старик смотрел на него кроткими и добрыми глазами. Егору Александровичу стало невыносимо тяжело. Он снова и снова сознавал, что подле него теперь нет решительно ни одного человека, могущего поддержать его, как когда-то поддерживал его Гуро. А поддержка была так нужна именно теперь. Он стоял над обрывом, один неверный шаг, и он мог погибнуть нравственно, погибнуть, презирая самого себя за гнусные сделки со своею совестью…
Софья Петровна дала слово Протасовым приехать к ним на обед через три дня. Она напомнила об этом обещании сыну. Он с озабоченным видом, думая о чем-то другом, коротко заметил ей:
— Я поеду, но мне кстати по дороге надо будет заехать к дяде, потолковать о делах.
— О делах? — с удивлением спросила Мухортова.
— Да, надо же взглянуть когда-нибудь беде прямо в глаза, — ответил сын. — Ведь мы только толкуем о том, что мы стоим на краю пропасти, а в сущности мы даже не знаем, стоим ли мы только на краю ее или уже летим в нее неудержимо вниз головою…
Генеральша томно и медленно вздохнула.
— Ах, лучше и не заглядывать туда… — ответила она, закрывая на минуту глаза рукою. — Но я надеюсь, что ты произвел впечатление на Мари…
Сын сделал нетерпеливое движение. Он избегал всяких разговоров с матерью об этом щекотливом предмете, чутьем угадывая, что мать не поймет его чувств.
— Я не желаю ни покупать невесты, ни продаваться, — ответил он коротко и сухо.
Мать испугалась и широко открыла глаза.
— Разве ты раздумал?.. Да нет, это невозможно!.. Дядя же говорил, что другого исхода нет, — заговорила она растерянно. — Ах, Жорж, неужели эта связь мешает тебе?.. Ведь нельзя же, милый…
— Не будем покуда говорить об этом, — перебил он, по-прежнему коротко и сухо, как бы отрывая всякую возможность к продолжению разговора.
Мать и сын отправились к Протасовым. Немного в стороне было имение Алексея Ивановича. Доехав до него, Егор Александрович приказал кучеру остановиться и сказал матери, что он явится к Протасовым через час, через два, пешком. Он направился к дому дяди.
Старик Мухортов в своем коломянковом сером балахоне стоял на надворном крыльце и о чем-то горячо спорил с двумя работниками, сильно жестикулируя и пересыпая речь отборною непечатною бранью, поминая и сыновей, и матерей. Он кричал так громко, что его голос был слышен издалека. Он очень удивился, увидав племянника.
— Я тебе помешал? — спросил Егор Александрович.
— Нет, я уже кончил… Хозяйственные распоряжения кое-какие делал, — ответил старик.
Молодой человек слегка улыбнулся.
— А я думал, что ты уже там, у своей прелестницы, — сказал старик. — Надеюсь, что блажь-то прошла из головы! И с чего ты взял, чудак, отказываться?..
— Я заехал поговорить с тобой о деле, — проговорил Егор Александрович, не отвечая на вопрос.
— О деле? О каком таком деле? — удивился дядя.
— Пройдем в дом, — сказал Егор Александрович.
Старик наскоро отдал последние строгие приказания работникам, пригрозив опять и «бараньим рогом», и «местами, куда Макар телят не гоняет, а ворон костей не заносит», помянул еще раз родителей и сродственников и повел племянника в свой кабинет. Здесь было целое столпотворение: массы бумаг, шнуровых книг, образцы каких-то семян, картофеля, какая-то машина, спичечные коробки разных образцов — все это было нагромождено так, что трудно было отыскать свободное место на стуле или на диване.
— Ну, какие такие дела могут быть у тебя, Егорушка? — спросил шутливо дядя, отирая пот. — Вот у нас так дела! С утра сегодня с работниками всех родителей поминаю и не могу доказать подлецам, что цены им не след поднимать, если зиму голодать не хотят…
— Не можешь ли ты обстоятельно выяснить положение наших дел? — спросил племянник, не слушая его.
— Ха-ха-ха! Вот выдумал! Чего тут выяснять: прогорели совсем, вот и выяснение, — ответил дядя таким тоном, точно он говорил о какой-нибудь комической истории. — Впрочем, ты должен это знать, так как я все подробно писал твоей матери.
— Ты думаешь, она читала твои деловые письма? — сказал Егор Александрович с презрительной усмешкой.
— Ну, а ты?
— Я никогда не вмешивался в дела.
— А кутить умел?
— Ты ошибаешься… Я жил, относительно, очень скромно… Но дело не в том… Мне нужно знать точно и определенно, можно ли вывернуться в нашем положении… К сожалению, мне ты никогда и ни о чем не писал… и я теперь не знаю, что начать…
— Да ведь это решенный вопрос: ты женишься…
— Я сказал, что я не женюсь, — коротко ответил Егор Александрович. — Мне нужно знать, есть ли другой исход?
— Да ты с ума сошел! — воскликнул старик почти с испугом. — В какое положение ты меня ставишь перед Протасовым. Ведь он на это рассчитывает…
Он хотел что-то сказать еще, но Егор Александрович перебил его:
— Можно ли покрыть долги продажей большей части имения, оставив себе такую часть, которая давала бы средства к скромному существованию?
— Да ты что задумал, Егорушка? — спросил с тревогой старик, кажется, серьезно подозревая, что молодой человек сошел с ума.
— Видишь ли, что. Я хотел бы честно расплатиться с долгами. Если у меня останутся кое-какие крохи, я поселюсь здесь, бросив службу в полку. Здесь со временем можно будет, конечно, пристроиться как-нибудь, если я попривыкну к здешней жизни…
Дядя смотрел на него широко открытыми глазами. Это было для него нечто новое.
— А мать?
— У матери есть пенсия…
— Но она же не привыкла кое-как жить, замашки широкие…
— Мало ли у кого какие замашки, но если другого выхода нет… Впрочем, дядя Жак питает к ней такие родственные чувства, что не оставит ее, — сказал молодой Мухортов, и какая-то нехорошая нотка прозвучала в этих словах. — Я серьезно прошу тебя сообразить все, что можно сберечь, ликвидируя дела… Я хочу расквитаться навсегда с долгами, но мне надо знать, с чем я могу начать новую жизнь. Если не останется ровно ничего, то мне, конечно, нечего и думать об отставке, а придется перейти в армию и не думать об университете. Это нужно решить на днях же, так как в гвардии я во всяком случае не могу больше служить…
Алексей Иванович потер рукою потный лоб, точно он все еще не мог сообразить вполне того, что происходит.
— Право, Егорушка, в толк я ничего не возьму, не ожидал я от тебя этого, — говорил он, ходя по комнате. — Как же так, все уладили, все пошло, как по маслу, и вдруг… У нас тоже с Протасовым свои планы были… этакая неловкость выходит… Да тебе и не выжить тут… Где тебе!
— Да ты же меня совсем не знаешь, — просто заметил Егор Александрович. — Наконец это мое дело: выживу я или нет. Ты только сообрази чисто деловую сторону; я сделал бы это и сам, но все бумаги, касающиеся имения, у тебя, я ничего тут не соображу один…
Егор Александрович говорил спокойно и серьезно. Алексей Иванович раза два снова наводил речь на женитьбу, но племянник упорно подтверждал, что он никогда не женится на Протасовой, хотя бы ему грозила нищета. Почему — этого он не объяснял, сказав просто, что он не любит ее, а жениться без любви он не намерен. Старик только покачивал головой и наконец со вздохом заметил:
— Смотри, Егорушка, не прогадай! После близок будет локоть, да не укусишь… А впрочем…
По лицу старика скользнула ироническая улыбка.
— Попробуй… поскачи по-нашему… Скоро вы устаете, питерские франты…
Егор Александрович ничего не возражал и стал прощаться с дядею.
Он пешком направился к Протасовым. Они жили в старинном помещичьем доме. Дом принадлежал когда-то трем теткам Марьи Николаевны, сестрам ее матери, девицам Ададуровым. Дом производил неприятное впечатление по своей скучной архитектуре, — это была какая-то прямолинейная большая казарма, выкрашенная казенной желтой краской с белыми плоскими колонками около подъезда, с прямыми окнами. За домом тянулся столетний мрачный и однообразный парк. В комнатах веяло тою же строгостью, однообразием и скукою. Старинная тяжелая мебель стояла «по ранжиру», точно вросла в пол. Белый зал в два света казался приемной комнатой в каком-нибудь присутственном месте. В гостиных выцветшие штофные стулья и диваны, казалось, были набиты не волосом, а кирпичами. Но каждая вещь говорила, что все это стоит здесь «со времен очаковских и покоренья Крыма». Три тетки Марьи Николаевны Протасовой: Аглая, Серафима и Ольга Евгениевны Ададуровы тоже больше напоминали век Екатерины, чем наше время. Чванные, сухие, отдалившиеся от всего живого, старые девы в своих ярких платьях и в давно вышедших из моды кринолинах были бы очень смешны, если бы от каждого их слова не веяло скукой. Они жили с незапамятных времен в своем имении; было время, когда они чуть не потеряли этого имения, проев последние крохи; в это время явился к ним на помощь Протасов, посватавшийся за их младшую сестру. Долго колебались они согласиться на этот неравный брак, но перспектива разорения и продажи имущества заставила их принести эту «жертву». Младшая Ададурова вышла за Протасова, имение было приведено в порядок; Протасов же, кроме хорошенькой жеиы, приобрел довольно сильные связи и протекции в Москве, где Ададуровы всегда проводили три зимних месяца ежегодно. Протасов овдовел давно, обзавелся в Петербурге побочной семьей, и его дочь росла под надзором трех старух-теток, не умевших никогда справиться с девочкой. Они говорили со вздохами, что в ней сказывается плебейская кровь, когда она убегала к деревенским мальчишкам и девчонкам, лазила на деревья, играла в лошадки или ходила в поле жать с бабами. Тетки чуть не прокляли ее, когда она почти ребенком, года полтора тому назад, вдруг убежала от них из Москвы от какого-то престарелого жениха генерала и приютилась у своей подруги-крестьянки. Эта история наделала шуму, смутила даже вечно холодного и невозмутимого Протасова. Отыскав дочь, он попробовал пригрозить ей, но сразу наткнулся на железную волю, на характер такой же твердый, как его собственный. Старик сдался и раз навсегда дал слово не приневоливать дочь в деле замужества. Это все, что отвоевала она себе. С той поры ей стало дышаться легче и вольнее, хотя скука и тоска остались прежние.