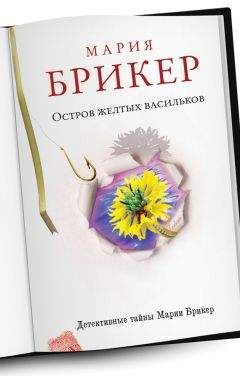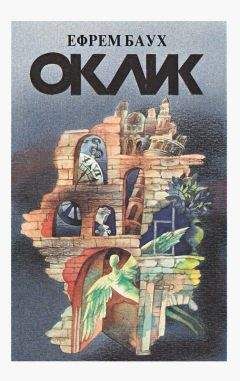Босов, уткнувшись в бумаги, даже не посмотрел ей вслед.
В конторе мы просидели до наступления сумерек.
Многое прояснилось, и я уже видел контуры своего очерка, имел представление о теперешнем Босове, его характере, манере держать себя с людьми, пристрастиях. Он вызывал во мне симпатию цепким, недюжинным складом ума, своей горячностью и убежденностью в замечательном будущем колхоза. Выше всего он ставил точный расчет, механизацию, гордился комплексом, словно тот уже действовал, с упоением рассказывал о кормоцехе, молокопроводе, о доильных установках "Даугава" и "Пепелине", поругивал научно-исследовательский институт, с которым состоял в деловых отношениях, за медленную разработку проекта, заодно досталось от него и строителям те затягивали сдачу шестнадцатиквартирного дома.
Полный впечатлений ушел я от Босова, осмысливая перемены и одновременно упрекая себя в неосведомленности: вот жил, изредка навещал родных, беседовал с земляками, все рисовалось понятным, однако толком я так и не постиг их сегодняшней жизни, памятью как-то всегда обращался к прошлому, невольно и собеседников на него настраивал - и что-то упустил, проглядел. Приходили на ум и другие мысли: как знать - может быть, с такой остротой и непосредственностью я бы и не почувствовал вдруг участившийся пульс этой новой жизни без любви и привязанности к былому?
Да, я что-то проглядел, что-то не осознал. Мимо меня прошла какая-то существенная сторона марушанской жизни, думал я вечером, лежа на плюшевом продавленном диване, который мы, построив этот дом, купили с отцом в районе, на пестрой осенней ярмарке, и привезли на счастливо подвернувшейся линейке тогдашнего председателя колхоза Данилы Ивановича. А Босов? Он все видит, улавливает и все понимает? Вряд ли, что-то и он недооценивает, что-то ускользает и мимо него. Сегодня вот не совсем учтиво обошелся с пожилым колхозником.
А тот ему в отцы годится. И все же он умница, хозяйственная голова. Весь ушел в экономику, в технику. Наверное, спит и видит свой комплекс, невиданные на этой земле урожаи картошки и лукьяновской пшеницы, всюду мерещатся ему цифры доходов... Босов на своем месте, честно делает дело.
Глава четвертая
РОДИТЕЛЬСКИЕ ВЗДОХИ
Мать подоила корову, внесла полную цибарку молока и стала процеживать его через марлю. Было слышно, как молоко туго билось, журчало в горшки. В сенцах - привычный топот сапог: отец вернулся с покоса. Он уже давно на пенсии, но по привычке ходит в бригаду и работает наравне со всеми - "кто куда пошлет".
- Мать, Федька дома?
- Дома.
- Тогда наливай нам по кружке. Будем вечерять.
Ужинали втроем, вспоминали Петьку. Он окончил институт в Москве, стал преподавателем, женился и сейчас жил в Черемушках, в кооперативной трехкомнатной квартире. В прошлом году отец ездил к нему, две недели провел в гостях, ел и пил "чего душа хотела", в тапочках по коврам расхаживал, "проверялся на рентгене" в поликлинике (он жаловался на боли в животе), глотал горькие, как хина, таблетки. Но соскучился, не закончил курса лечения и уехал домой.
- Ну как, папань, сейчас не болит?
- Чуток полегчало, - допив молоко, отвечает отец.
- Куда там! - машет на него рукой мать. - По ночам раз пять встает, соду разводит, стаканами глушит.
Совсем никудышный.
- Это я курить встаю.
- И курить надо бросить, аж кричит. Перед светом разрывается от кашля. Сипит, в грудях клокочет. Я ему говорю, черту такому: ну если не в силах отвыкнуть от курева, хочь этот вонючий турецкий табак не кури, покупай папиросы. У нас все учителя их покупают. А ему хочь бы что. Листьев намнет и см а лит одну за другой. Как на пропасть.
Маленькая, сухонькая, в опущенном до бровей платке, мать жалостливо и с укором смотрит на отца. А он трясет своей поседевшей, сивой головой, щурит глаза и хитровато ухмыляется. Усмешка обнажает и резко подчеркивает все его морщины у рта, на щеках и даже на шее. Постарел... Неужели это он кружил на руках счастливую, влюбленную в него Полю, жену объездчика? И неужели был этот покос, была лунная летняя ночь - и я бегал вокруг них, сильных, молодых, взволнованных близостью друг к другу, переливами света на траве, бегал, наивный несмышленыш, и орал во все горло: "Папань, покружите и меня!" И голос мой звенел, бежал по верхушкам берез и далеко отзывался в балке, откуда тянуло запахом разомлевшей за день малины...
- Мели, Емеля, твоя неделя. От одних листьев я бы задохнулся, добродушно защищается отец. - Попробуй сама намни их и затянись. Враз богу душу отдашь.
- Да я их и в руки не возьму! Была охота поганить себя.
- Я и корешков примешую. Толку в ступке.
- Лучше папиросы, говорю, кури. Побереги здоровье.
- Молодым его не уберег, теперь поздно. Я к табаку на фронте пристрастился, к махорке. И водки там в первый раз попробовал. Жизнь, она всему научит. На войне я и желудок подорвал. Сидим в окопах. По неделям всухомятку... одни сухари да концервы. И то - рады до смерти. Ты того не знаешь, что я испытал.
- То война, а нонче чем ты недовольный? Что тебе мешает? Папирос в магазине навалом.
- Заладила. И что ты за них уцепилась! Папиросы, папиросы... Туда всякой дряни, бурьяна напрут - голова мутится. От них прямо дуреешь. Табак с грядки слаже.
Вкус земляной.
- Вот, Федя, возьми его за так. Горбатого могила исправит.
- Э, мать! Мы еще поживем. Загодя в гроб не ховай, - бодрится отец.
- Ага, не дюже-то гордись. Не зарекайся... Никак не уговорю его съездить к Петьке. Там у них в поликлинике врачица знакомая - гляди б, и вылечила... А этот, - она с осуждением кивает на отца, - уперся как баран в новые ворота. Хочь ты уговори его.
- Не поеду! - твердо заявляет отец. - Я написал, нехай он мне порошков бандеролью вышлет, глотать я и без врачицы умею.
Последний раз я был у младшего брата на банкете: он отмечал защиту кандидатской диссертации. Было много чопорно одетых и совсем незнакомых людей, гости ели, произносили тост за тостом, смеялись и танцевали, то и дело стреляли в потолок шампанским, стрелял и я - и тоже, как все, пил и смеялся, а с наступлением утра спохватился: нужно было прощаться и уезжать. Меня ждала в газете срочная забота. Так мы и не поговорили с Петром по душам, по-братски. От того банкета осталось ощущение неудовлетворенности и прежней, еще более усилившейся тоски.
- А почему бы, папань, и не съездить вам к Петру?
Поезжайте. Полечитесь, а после расскажете, как он там поживает, что у него новенького.
Он вскидывает на меня глаза и несколько секунд смотрит в упор с выражением непоколебимой решимости.
- Не поеду. Он сам к отцу, к матери за семь лет ни одной ногой. А мы что, дурни? - В голосе отца - давняя, устоявшаяся обида. - Совсем вроде ничего не соображаем. Он ученый, а мы тут... груши околачиваем. Обойдусь и без его врачицы.
- Вишь, какой настырный. Ты одно, отец, думаешь, а у него на уме другое.
- Не сбивай меня с панталыку, сам собьюсь.
- Да уж тебя собьешь! Его за день одними звонками начисто изведут. И каждому студенту ответь, все как надо разъясни. Вертится - жалко смотреть. Кофею выпьет, портфель под мышки и в лифт. И все бегом да бегом. Как будто за ним кто гонится.
- Жалей его, жалей! - Отцу прямо не сидится на месте. - На курорты он не забывает ездить, а к родителям - на это у него отпуска не хватает. Да по мне, что он есть, что его нету! - выпаливает он.
- Отец! - ужасается мать. - Что ты мелешь?
- То, что слышишь, - ерзает он на стуле. - Мы кто ему? Седьмая вода на киселе? Так нехай и к нам не касается.
- Тю, какой ты ненавистный. Хочь бы Федьки постеснялся.
- А мне перед сынами нечего стесняться. Нехай они нас стесняются.
- Глянь на него! Попала шлея под хвост. Да чем же они провинились перед нами? Вот он, Федя, всегда такой настырный, как заспорит. Его не переспоришь. Из-за вас и мне от него, черта скаженного, достается.
- Что же вы, папань, мать обижаете?
- Я не обижаю. Она сама себя давно обидела, - непримиримо ожесточается отец.
- Ага. Чи я враг себе... Как где выпьет, так и давай ко мне приставать, вас ругает на чем свет стоит. Сыновья ему не угодили. Выучили, мол, их на свою голову. Так, отец, подумай: чи им век при тебе жить? За хутор, как за бабскую юбку, держаться? Молодые по своему уму устроились, а ты живи по своему.
- Вот гадство, Федя! - то ли жалуется, то ли злится отец. - Никто меня тут не понимает. Ни одна живая душа.
- Сиди уж! Чего тебе надо? У нас теперь только птичьего молока нет, живи и радуйся. А он все ругается.
- Эх, мать, чудная ты.
- Да чудной все одно что дурной.
- Чудная! - более спокойно, как бы извиняясь, вздыхает отец. - Я не ругаюсь. Я думаю.
- Раньше надо было думать. На шофера после войны звали учиться отказался, теперь сиди, не вини никого.
- Ты ж боялась отпускать меня на курсы. Она, Федя, всю мне жизнь сгубила. Короткая у нее память.
- Ты сам не захотел ехать.
- Ну я, я. Будь по-твоему.
Мать постелила постель и легла: ей вставать до зари, доить и провожать в стадо корову, растапливать печь.