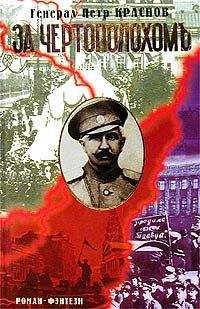Но лес не был мертвым. Из-под ног путников выскакивали зайцы. Тетерев вырвался подле Эльзы, запорскал и зашумел крыльями, так напугав ее, что она пронзительно закричала. Бакланов видел лисицу. Дятлов уверял, что он видел медведя. И потому, когда ночевали в самой лесной чаще, то установили дежурство и разложили костры, чтобы пугать ночного зверя. Но спали уже со смутной верой, что, может быть, что-нибудь и найдут.
Шли весь второй день, и все был тот же лес. К вечеру он стал ниже. Сквозь стволы стала просвечивать опушка. Потянуло холодом и сыростью, но кругом был лес, В и стройные можжевельники, как часовые, стояли у входа в него.
Палатки расставили на опушке леса. На восток тянулась широкая долина. Она спускалась вниз, вероятно, к реке, и в темноте надвинувшейся ночи трудно было разобрать, что там — леса, поля, нивы, пустыня. Все возились у костров, согревая пищу, потом ужинали молча, угрюмо, и веря и не веря, усталые, потерявшие надежду. На Коренева смотрели мрачно.
— Я думаю, — сказал Клейст, — что наш опыт, наше изыскание, несомненно, громадной важности. Мы открыли новую землю, богатую землю, но землю пустую. Нам нужно возможно скорее вернуться домой и снаряжать экспедицию для колонизации этого чудного края.
Никто ничего не сказал, и после короткой тишины Клейст продолжал:
— Сто лет тому назад, мы, немцы, говорили, что славяне — это навоз для германской расы. Они сыграли роль этого навоза. Поля утучнены кровавыми жертвами, земля отдохнула и стала девственно плодородной… Германскому народу пора приступить к ее обработке.
Опять все молчали. Коренев поднялся от костра и пошел к опушке. Он кинулся ничком на землю, уткнул лицо в сырую моховую кочку и плакал горькими слезами.
О! Что мог он возразить на эти жестокие слова! «Россия была, России нет! Навоз! Навоз, навоз для германской расы. Его отец, его дед, Тургенев, Лев Толстой, Чайковский, Глинка, Репин и Маковский, Менделеев, Серафим Саровский — навоз для германского племени!» Слезы душили его. «Но ведь правда! Правда! Великий народ самоубийством покончил с собой, и на могиле самоубийцы выросла трава, показались цветы, которые сорвут те, кто остался жив. Разве не правы они? О! Как мучительна жизнь. Зачем, зачем являлся таинственный призрак ему, и манил, и звал его на восток? Чтобы увидеть торжество иноземцев, чтобы услышать чужую речь там, где должна была звучать родная русская речь. И некого винить. Сами… сами… сами пожертвовали собой во имя общего блага, во имя этого страшного Интернационала…»
Коренев плакал, уткнувшись лицом в кочку. Никогда он не любил так родины, никогда он не чувствовал себя так сильно русским, как в эту ночь, полную мрачного отчаяния.
— Петер! — раздался голос Эльзы с опушки. — Петер, идите скорее сюда.
Коренев встал и пошел на зов.
Эльза стояла на опушке, прислонившись к большой сосне.
— Смотрите! — сказала она, показывая рукой на юго-восток.
На темном пологе неба чуть горело бледно-зеленое зарево.
— Это северное сияние, — сказал усталым голосом Коренев.
Силы покидали его.
— Нет, нет, — сказала порывисто дыша Эльза, — это зарево электрических огней большого города… Как над Берлином.
Коренев схватил ее руку. Она пожала его холодную руку своими горячими пальцами.
— Позвать их? — спросила она.
— Нет, погодите… так страшно обмануться. Зеленовато-синий свет горел в небе и вдруг потух…
Коренев взглянул на часы. Был первый час ночи.
— Это город, — прошептал он. — Культурный город с электрическим светом, с трамваями, с людьми.
Сердце его сильно забилось. Какое-то странное чувство небывалого раньше волнения захватило его целиком, и он опустился к ногам Эльзы и сел на землю.
Так и остались они сидеть рядом всю долгую осеннюю ночь, и все прислушивались, и ждали услышать что-нибудь, что сказало бы им, что там люди. Но ночь была темна, и ничего не было видно на горизонте, там, где тихо мерцали звезды и будто перемигивались между собой, и шептали слова, им одним известные.
На востоке дали стали шире, а небо бледнее. Звезды погасали одна за другой. Небо наверху становилось густого синего цвета. Тонкий туман потянулся с земли. Опушка леса, где сидели Коренев и Эльза, спускалась пологим скатом к не видной еще реке. Скат порос густой травой. Белели доцветающие дудки, и цветы их сливались с белым туманом. Дали ширились с каждым мгновением. Точно ночь поднимала черные ресницы свои, и блистали за ними ясные, еще не проснувшиеся, глаза. Четкой щетиной стал далекий лес, и синим клинком проявилась заросшая кустами река. И вдруг вспыхнула на горизонте золотая полоса, и предметы стали яснее, и четко осветились лиловые колокольчики и желтая ромашка у ног Эльзы. Вместе со светом с востока пришел нежный, далекий звук свирели. Он пронесся двумя-тремя порывистыми нотами, тонкими, жалобными, зовущими, и затих. Еще и еще нота приставала к ноте, запуталась в переливах, запела, заныла, оборвалась, стихла и понеслась, уже вольная и широкая, как открывшийся вид, плачущая, тоскующая, зовущая русская песня. Кто-то играл внизу над рекой, кто-то, протосковавший всю долгую ночку, заливался теперь сладкой песнью и ждал теплого солнца.
Нестерпимо для глаза загорелась одна точка. Словно лужица растопленного золота появилась над лесом. Брызнули золотые лучи, синие тени побежали от деревьев, прошептала всеми листами своими береза, и солнце покатилось по небу, разгоняя мрак. Последняя звезда на западе угасла. Погасали алые полосы, и все небо становилось ровного чистого синего цвета.
— Как хорошо! — воскликнул Коренев.
— Что хорошо? — отрываясь от дремы, сказала Эльза.
— Да вот все это: солнце, вид, песня эта. Незнакомая и родная. Странная и понятная, робкая и зовущая, печальная и скромная и в то же время великая. Со дна души моей встают какие-то образы, и сердце мое вторит этой песне и угадывает ее продолжение.
— Страшно, — сказала Эльза.
— Почему?
— Шли мы пустыней и не видали людей, и не знали, где они, и есть ли или нет… И не было страшно. Но вот там город, эта тонкая флейта, что играла гимн солнцу, — они сказали, что там люди, и стало страшно. Человек человеку — волк.
— Мы шли к ним. Там русские.
— Как-то примут они? Что, кроме ненависти, должны питать эти русские к нам, европейцам, погубившим их отцов и дедов?
— Ах, нет. Это не то, — задумчиво проговорил Коренев. — Нет, совсем не то и не то. Я все боялся… Всю ночь думал, а что, если в России не русские? Ну, китайцы, татары, не знаю кто! Пришли и расположились на навозе-то русском. Вот и город сверкнул вчера электрическими очами своими, и все было страшно. Придешь, а там чужие люди, чужой язык, и родина… не родина… И вдруг эта пастушья свирель… Ведь это значит!.. Это значит — мы пришли домой!
Они не прошли и версты, как Курцов, находившийся в таком же напряженном состоянии, как и Коренев, воскликнул: «Гляньте! гляньте! вот кто играл!»
Холмы волнистыми, мягкими, зелеными грядами спускались к реке. В небольшой балке паслось стадо. Коровы задумчиво стояли в низине и тупо глядели на солнце, сыровато-белые курчавые бараны разбрелись по скату. Спиной к подходившим путникам сидел мальчик лет двенадцати, и в руке у него была дудка.
Мохнатая собака насторожилась и бросилась навстречу путешественникам со злобным лаем.
— Сюда, Барбос! Барбос, сюда! — крикнул мальчик, вскочил на ноги и повернулся лицом к путникам.
— Ах, какая прелесть! — воскликнула мисс Креггс.
Мальчик был одет в белую, длинную, шитую по вороту и краям голубым узором рубаху, серые, грубого сукна штаны, ноги были обмотаны онучами, и на ногах были чистые новые липовые лапти. Лицо у него было загорелое, с серыми наивными глазами, любопытно глядевшими на все общество.
— Барбос, сюда — сказал он еще раз, оттягивая собаку за ошейник. — Во имя Христа, кто вы? Не бойтесь. Собака вас не тронет.
Коренев откинул винтовку и снял шляпу.
— Мы русские люди, — сказал он. — Хотя у нас немецкие паспорта, но мы русские.
Он полез за пазуху и достал испещренный визами паспорт. Мальчик не посмотрел на бумагу. Он глядел внимательными умными глазами, переводя свой взгляд с одного на другого.
— Вы голодны, — серьезно сказал он, — вы устали. Идите, и мой отец накормит и напоит вас. Потому что сказано в Писании, если вы голодного накормите и жаждущего напоите во имя Мое — вы Меня напоите и накормите.
Мальчик пошел впереди путешественников. Собака, недоверчиво ощерившись, шла сзади.
— Вы христиане? — спросил мальчик, вдруг останавливаясь и оглядывая всех.
Никто ничего не сказал.
— Сказывают, — проговорил мальчик, — у немцев христиан нет. Они никак не веруют… Зачем вы ружья-то взяли? — с усмешкой спросил он.