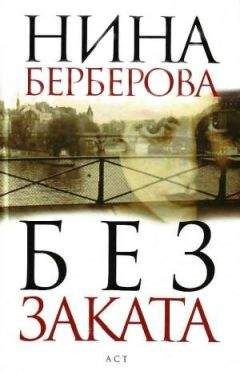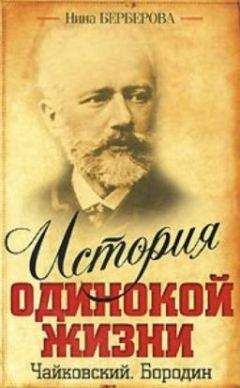Он сел рядом с Верой, как-то боком; его усталое, жесткое лицо менялось в сумраке, глаза смотрели вверх, притягиваемые светом в окне.
Она стала ждать его взгляда. Он провел рукой по ее руке; рука у него была сухая и тяжелая. Молча, он дотронулся до ее шеи, потом поднялся к ее лицу, и рука вдруг стала невесомой, мимо уха, к виску, по бровям, Вера чувствовала его ласку.
Он встал, отошел и опять пропал; он стоял у окна, и она не могла его видеть.
— Предположим, что вы лунатик, — сказала она.
Он не отозвался.
— Вы ушли в форточку?
Он ответил серьезно:
— Нет, я здесь.
Она засмеялась и вдруг сама услышала, как смех выдал ее. Она смолкла, но было уже поздно. Он возник у края оттоманки и вдруг вытянулся рядом с Верой.
Его рука легла ей на лицо, она чувствовала губами его ладонь, она дышала запахом этой ладони. Это была маска, наложенная перед операцией; стучит кровать, сейчас все провалится… сейчас она… еще секунда…
Вера закрыла глаза, и от его лица, надвинувшегося на нее, ей стало еще душнее, чем от его руки. Он поцеловал ее несколько раз, в губы, и второй поцелуй (она знала это, знала!) был слаще первого, а третий — слаще второго. Она почувствовала, как холод бежит по ее обнаженным ногам. «Не надо», — сказала она вдруг и захотела вырваться. «Нет, надо, надо» — прошептал голос над самым ее ухом. Она не знала, что будет такая боль и крикнула; он зажал ей рот рукой, она заметалась, не узнавая лицом эту руку.
В комнате наступила необычайно острая тишина.
— Простите меня. Боже мой, отчего вы не сказали! — проговорил он с трудом, ставя слова и взял ее Веру за руку. Она не отняла руки, но и не взглянула на него.
— Какой пьяный и какой вежливый, — проговорила она.
— Простите меня. Боже мой, если бы я знал!
— …оказался неприятный сюрприз?
— Не говорите так. Зачем это?
— Не говорите вы сами так много. То молчали, а теперь вдруг разговорились.
Он бережно поправил ей платье и опять взял руку.
— По крайней мере, как вас зовут?
Она перевела на него глаза. Она все еще лежала на спине, он сидел рядом. В комнате становилось все светлее: луна косо и бледно входила в полузанавешенное окно. Можно было различить большую кафельную печь в углу. И вдруг Вера почувствовала, что больше так невозможно, что волнение (как ей казалось, унизительное волнение) охватывает ее. Рыдания заходили у нее в груди.
— Маруся, — сказала она совсем тихо.
Он смотрел на нее, сжимая ей руку. Он сам не знал, что ему сказать. Луна внезапно отпечатала широкий квадрат на крашеном полу. И только сейчас сюда донеслось шарканье танцующих, граммофон.
— Чья это комната? — спросила она, совладав с голосом.
— Не знаю, я первый раз здесь в гостях.
— Разве вы не живете у Венцовых?
— Нет.
Они опять замолчали.
Он поднял ее руку и тихо поцеловал ее, и она своей удержала его руку, притянула к своему лицу и положила себе на лоб.
— Когда я в прошлом году был в Архангельске, — сказал он вдруг ясным, трезвым голосом, — там был один человек, который проделал весь путь от Гренландии до Берингова пролива.
Она легла на бок и внимательно принялась смотреть на него:
— Мне и без того холодно, не рассказывайте мне про Гренландию.
— Этот человек потом уехал в кругосветное путешествие.
— Он вернулся?
— Нет еще.
— Он и не вернется.
— Почему?
— Потому что из кругосветного путешествия никогда не возвращаются.
Теперь вместо граммофона рычал голос под гитару.
— Когда мне было десять лет, я отправилась в кругосветное путешествие. И я не представляю себе, когда вернусь.
Он улыбнулся.
— Маруся, вы очень, очень милая. Я, по правде сказать, не думал, что вы такая.
У нее замерло сердце. Еще одно слово и она поняла, что поцелует ему руку, которую держала близко у самого своего лица.
— Вы не в обиде на меня?
Не то, не то!.. Она сделала знак, что нет.
— Ну тогда все хорошо. А когда я пьян, я правда ужасно молчаливый. Вы заметили?
Он встал, слегка отряхнулся, подошел к печке.
— Совсем холодная.
Вера тоже встала.
— Пожалуйста, побудьте здесь, — сказала она, — пока я уйду. Хорошо?
Она нашла Шуркину остроносую туфлю за оттоманкой, поправила волосы, разложила по плечам кружевной дырявый воротник.
— Прощайте.
— Прощайте, Маруся. Не сердитесь?
Она протянула ему руку, и он пожал ее и даже тряхнул слегка. Она вышла в коридор, оттуда в столовую. У залитого вином стола, низко склонив голову в грязную тарелку, сидела заплаканная, сонная Шурка и рядом с ней тоже сонный, взъерошенный Матренинский; в зальце было темно, оттуда неслось заунывное, в разнобой хоровое пение; казалось, поет человек восемь из разных углов комнаты, не поспевая друг за другом. Отыскав свою шубу и платок в прихожей, сменив туфли на валенки, Вера пошла через кухню. Там, на теплой плите, положив под голову подушку, накрывшись платком, спала тетенька. Вера тихо подняла крюк входной двери.
Был шестой час утра и еще совсем темно. Облака закрыли луну. Морозило. По снегу, неслышно, Вера пошла по направлению к дому, ходьбы было минут десять, и в эти десять минут она не встретила ни одной живой души. Ей даже пришло в голову, что законом запрещено ходить по Петербургу в этот час. Она вспомнила, что еще недавно у этого заколоченного досками кооператива сняли с прохожего шубу — об этом рассказывал отец. Но страха она не чувствовала. Ей даже нравилось, что она одна, совсем одна, в широких, пустых улицах. Вот, если бы, например, кто-нибудь взглянула на нее сверху — не бог, конечно, не о боге она сейчас думает, — но человек, сидящий, скажем, в воздушном шаре. Он увидел бы величавый лабиринт и маленькую в нем мышь или ящерицу, может быть он бы даже принял ее за человека — взрослого, храброго, гордого, предпринявшего кругосветное… И если что случается в этом путешествии, то это так и надо. Потому что все, что случается — хорошо.
Но на любовь это не похоже. Кто знает, может быть, если бы он дал ей расплакаться, если бы он сказал ей что-нибудь, что в написанном виде, например, могло бы оказаться смешным, что-нибудь такое обыкновенное и единственное — это стало бы любовью. Он не сделал этого. Спасибо ему. Как хорошо, что он не сделал этого!
Но как грустно, что этого не было. Вот и ночь прошла, прошел ее «первый бал» (Наташа Ростова, Андрей Болконский — ау, где вы?) и она одна бежит домой и, кажется, плачет. И никто не сказал ей, что хочет знать про нее, где она живет, что делает, что думает, когда опять придет? «Маруся». И больше ничего. А ведь он мог сделать с ее сердцем что угодно, и тогда это был бы плен. Слава богу, он не сделал этого!
У нее был ключ от квартиры, и она неслышно вошла, разделась и осторожно, боясь скрипнуть дверью, докралась до своей комнаты. На постели, под одеялом, кто-то лежал.
— Мама!
Она открыла глаза.
— Знала, что не разбудишь, дрянь, потому и улеглась здесь, чтобы непременно все знать. Рассказывай.
— Расскажи лучше ты, как это у вас бывало. Гремела музыка, бряцали шпоры, пары скользили по паркету…
— Мы обыкновенно приглашали тапера.
— …он говорил: я люблю вас. Она отвечала: спросите маменьку.
— Это так с нашими бабушками разговаривали.
— …и они выходили на балкон, съедали мороженое, простужались и умирали. Или нет, они женились и у них были дети.
— А у вас не так?
— Совсем не так. И тебе бы не понравилось.
— Неужели, под гармошку?
Она разделась, умылась за ширмой, расплескав воду, перелив полное ведро, и легла рядом, стиснув мать в объятии.
— От тебя пахнет табаком и водкой. А что за публика была? В кулак сморкались?
Вера слегка отпустила мать.
— Публика была самая разнообразная: кое-кто сморкался в кулак, а другие были хоть и пьяные, но очень вежливые.
— Воображаю.
— Извинялись за каждый пустяк. Был один даже вполне трезвый; архиереи по стенкам висели.
Они еще долго шептались, но уже не о том, что было, а том, как они друг друга любят. И мать иногда смеялась тихонько и радостно, как будто не было седины, как будто не продали лисью ротонду, и, незаметно подушкой утирая глаза и нос смеялась иногда сама Вера, так, словно и впрямь ничего не случилось.
Когда мать ушла, еще и еще раз обняв и расцеловав ее, в Вере медленно стала выпрямляться невидимая, спиралью сжатая пружина. Опять, как тогда, она закинула обе руки за голову, и ей представилось, что кто-то у изголовья заслоняет ей окно. Изо всех своих сил она старалась ничего не дать себе вспомнить — ведь если не помнить, то значит, ничего и не было, — так когда-то (еще во времена Сама) они установили. Если бы можно было, на месте всего бывшего, удержать сейчас в воображении рыжую голову пропавшего из ее жизни мальчика… Ребячество! Было. Было что-то, что никогда уже не хватит сил повторить. Невозможно пережить во второй раз такое мгновенное сиротство, такую жестокую свою ненужность.