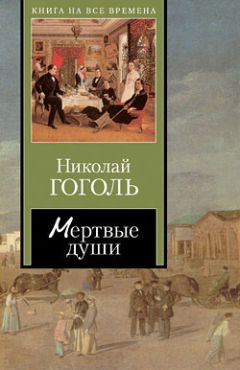– Направо, что ли? – с таким сухим вопросом обратился Селифан к сидевшей возле него девчонке, показывая ей кнутом на почерневшую от дождя дорогу между ярко-зелеными, освеженными полями.
– Нет, нет, я уж покажу, – отвечала девчонка.
– Куда ж? – сказал Селифан, когда подъехали поближе.
– Вот куды, – отвечала девчонка, показывая рукою.
– Эх ты! – сказал Селифан. – Да это и есть направо: не знает, где право, где лево!
Хотя день был очень хорош, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком, что значительно отяжелило экипаж; к тому же почва была глиниста и цепка необыкновенно. То и другое было причиною, что они не могли выбраться из проселков раньше полудня. Без девчонки было бы трудно сделать и это, потому что дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыплют из мешка, и Селифану довелось бы поколесить уже не по своей вине. Скоро девчонка показала рукою на черневшее вдали строение, сказавши:
– Вон столбовая дорога!
– А строение? – спросил Селифан.
– Трактир, – сказала девчонка.
– Ну, теперь мы сами доедем, – сказал Селифан, – ступай себе домой.
Он остановился и помог ей сойти, проговорив сквозь зубы: «Эх ты, черноногая!»
Чичиков дал ей медный грош, и она побрела восвояси, уже довольная тем, что посидела на козлах.
Подъехавши к трактиру, Чичиков велел остановиться по двум причинам. С одной стороны, чтоб дать отдохнуть лошадям, а с другой стороны, чтоб и самому несколько закусить и подкрепиться. Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей. Для него решительно ничего не значат все господа большой руки, живущие в Петербурге и Москве, проводящие время в обдумывании, что бы такое поесть завтра и какой бы обед сочинить на послезавтра, и принимающиеся за этот обед не иначе, как отправивши прежде в рот пилюлю; глотающие устерс,[8] морских пауков и прочих чуд, а потом отправляющиеся в Карлсбад или на Кавказ. Нет, эти господа никогда не возбуждали в нем зависти. Но господа средней руки, что на одной станции потребуют ветчины, на другой поросенка, на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком и потом как ни в чем не бывало садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжья уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемая расстегаем или кулебякой с сомовьим плёсом,[9] так что вчуже пронимает аппетит, – вот эти господа, точно, пользуются завидным даянием неба! Не один господин большой руки пожертвовал бы сию же минуту половину душ крестьян и половину имений, заложенных и незаложенных, со всеми улучшениями на иностранную и русскую ногу, с тем только, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки; но то беда, что ни за какие деньги, нижé имения, с улучшениями и без улучшений, нельзя приобресть такого желудка, какой бывает у господина средней руки.
Деревянный, потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных выточенных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники. Трактир был что-то вроде русской избы, несколько в большем размере. Резные узорочные карнизы из свежего дерева вокруг окон и под крышей резко и живо пестрили темные его стены; на ставнях были нарисованы кувшины с цветами.
Взобравшись узенькою деревянною лестницею наверх, в широкие сени, он встретил отворявшуюся со скрипом дверь и толстую старуху в пестрых ситцах, проговорившую: «Сюда пожалуйте!» В комнате попались всё старые приятели, попадающиеся всякому в небольших деревянных трактирах, каких немало выстроено по дорогам, а именно: заиндевевший самовар, выскобленные гладко сосновые стены, трехугольный шкаф с чайниками и чашками в углу, фарфоровые вызолоченные яички пред образами, висевшие на голубых и красных ленточках, окотившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вместо двух четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку; наконец натыканные пучками душистые травы и гвоздики у образов, высохшие до такой степени, что желавший понюхать их только чихал и больше ничего.
– Поросенок есть? – с таким вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе.
– Есть.
– С хреном и со сметаною?
– С хреном и со сметаною.
– Давай его сюда!
Старуха пошла копаться и принесла тарелку, салфетку, накрахмаленную до того, что дыбилась, как засохшая кора, потом нож с пожелтевшею костяною колодочкою, тоненький, как перочинный, двузубую вилку и солонку, которую никак нельзя было поставить прямо на стол.
Герой наш, по обыкновению, сейчас вступил с нею в разговор и расспросил, сама ли она держит трактир, или есть хозяин, и сколько дает доходу трактир, и с ними ли живут сыновья, и что старший сын холостой или женатый человек, и какую взял жену, с большим ли приданым или нет, и доволен ли был тесть, и не сердился ли, что мало подарков получил на свадьбе, – словом, не пропустил ничего. Само собою разумеется, что полюбопытствовал узнать, какие в окружности находятся у них помещики, и узнал, что всякие есть помещики: Блохин, Почитаев, Мыльной, Чепраков-полковник, Собакевич. «А! Собакевича знаешь?» – спросил он и тут же услышал, что старуха знает не только Собакевича, но и Манилова, и что Манилов будет поделикатней Собакевича: велит тотчас сварить курицу, спросит и телятинки; коли есть баранья печенка, то и бараньей печенки спросит, и всего только что попробует, а Собакевич одного чего-нибудь спросит, да уж зато всё съест, даже и подбавки потребует за ту же цену.
Когда он таким образом разговаривал, кушая поросенка, которого оставался уже последний кусок, послышался стук колес подъехавшего экипажа. Выглянувши в окно, увидел он остановившуюся перед трактиром легонькую бричку, запряженную тройкою добрых лошадей. Из брички вылезали двое каких-то мужчин. Один белокурый, высокого роста; другой немного пониже, чернявый. Белокурый был в темно-синей венгерке, чернявый просто в полосатом архалуке. Издали тащилась еще колясчонка, пустая, влекомая какой-то длинношерстной четверней с изорванными хомутами и веревочной упряжью. Белокурый тотчас же отправился по лестнице наверх, между тем как черномазый еще оставался и щупал что-то в бричке, разговаривая тут же со слугою и махая в то же время ехавшей за ними коляске. Голос его показался Чичикову как будто несколько знакомым. Пока он его рассматривал, белокурый успел уже нащупать дверь и отворить ее. Это был мужчина высокого роста, лицом худощавый, или что называют издержанный, с рыжими усиками. По загоревшему лицу его можно было заключить, что он знал, что такое дым, если не пороховой, то, по крайней мере, табачный. Он вежливо поклонился Чичикову, на что последний ответил тем же. В продолжение немногих минут они вероятно бы разговорились и хорошо познакомились между собою, потому что уже начало было сделано, и оба почти в одно и то же время изъявили удовольствие, что пыль по дороге была совершенно прибита вчерашним дождем и теперь ехать и прохладно и приятно, как вошел чернявый его товарищ, сбросив с головы на стол картуз свой, молодцевато взъерошив рукой свои черные густые волосы. Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и черными, как смоль, бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его.
– Ба, ба, ба! – вскричал он вдруг, расставив обе руки при виде Чичикова. – Какими судьбами?
Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с которым он вместе обедал у прокурора и который с ним в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить «ты», хотя, впрочем, он с своей стороны не подал к тому никакого повода.
– Куда ездил? – говорил Ноздрев и, не дождавшись ответа, продолжал: – А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух! Веришь ли, что никогда в жизни так не продувался. Ведь я на обывательских приехал! Вот посмотри нарочно в окно! – Здесь он нагнул сам голову Чичикова, так что тот чуть не ударился ею об рамку. – Видишь, какая дрянь! Насилу дотащили, проклятые, я уже перелез вот в его бричку. – Говоря это, Ноздрев показал пальцем на своего товарища. – А вы еще не знакомы? Зять мой Мижуев! Мы с ним все утро говорили о тебе. «Ну, смотри, говорю, если мы не встретим Чичикова». Ну, брат, если б ты знал, как я продулся! Поверишь ли, что не только убухал четырех рысаков – всё спустил. Ведь на мне нет ни цепочки, ни часов… – Чичиков взглянул и увидел точно, что на нем не было ни цепочки, ни часов. Ему даже показалось, что и один бакенбард был у него меньше и не так густ, как другой. – А ведь будь только двадцать рублей в кармане, – продолжал Ноздрев, – именно не больше как двадцать, я отыграл бы всё, то есть кроме того, что отыграл бы, вот как честный человек, тридцать тысяч сейчас положил бы в бумажник.
– Ты, однако, и тогда так говорил, – отвечал белокурый, – а когда я тебе дал пятьдесят рублей, тут же просадил их.