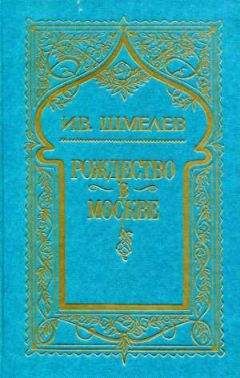Ознакомительная версия.
Кончили они представлять, барыня и спрашивает, пондравилось ли. А они всегда деликатные с господами, говорят – «благодарим покорно, хорошо представляли ничего». А пошли к себе, мне солдатик и говорит, совсем молодой мальчишка… А он от божественного начитан был, хорошего семейства… вот он и говорит, баушкой меня звал:
«Зачем, баушка, господа такое показывают, это грех… про святого человека, Господа крестил, а она от него словно нехорошего добивалась, соблазняла! Иван-Креститель это, и так нехорошо, и во-ет!..»
Мальчишка, а понял, что нехорошо. И постарше еще пеняли:
«Чего бы повеселей показали, а то как голову святому отрубили! Этого мы на войне вдосталь нагляделись».
Так мне с того вечера скушно стало, думалось все – так это не пройдет. А на другой день Васенька Катичке предложение и сделал.
XIII
Он в ту зиму часто к нам наезжал, на рысаке, на саночках. И барин к нему очень располагался, и Катичка тоже ничего. Возьмет ее и повезет кататься. У них на Тверской дом больше милиена стоил, и сколько именьев было, и еще уголь они копали… угольные земли были. Один сын у отца. Такой-то молодчик, черноусенький, бобровая шинелька. А ве-жливый… цельный мне кусок шелковой материи привез, серебристая-муваровая, да плотная такая, износу нет. Я ее в Крыму на мучку выменяла… не привел Господь поносить. На именины мне подарил, такой уважительный. Ну, прямо как королевич, лучше всех. Барин все Катичке шутил: «угольная ты у нас прынцеса будешь!» Ей семнадцатый пошел, а ему полнолетие выходило, только на войну его не требовали покуда. На анжинера он учился, на иликтрического. И Катичке словно больше других он ндравился. Да набалована, про себя очень понимала, вот и взяла манеру его дражнить. Скажет – заезжайте беспременно, буду вас ждать, – и час укажет. Заедет, а ее нет. Прибежит, много уж спустя, и давай отпираться: «да вы всегда напутаете, да я не обещалась, я вам в пятницу обещалась…» А у ней семь пятниц на неделе. А то – «артисты меня провожали, совсем забыла!» А он у нас уж за жениха считался, только от него разговору не было.
На масляной, – другой, никак, год войны был, – приезжает вдруг к нам его папаша, а раньше никогда не бывал… солидный такой, в бобровой шапке, большая борода, с проседью, – князь и князь. А зараныпе сказал барину по телефону. Барин его в прихожей встретил и в кабинет увел. Поговорили, – уехал. Вечером барин и спрашивает Катичку:
«Вот какое дело, решай судьбу. Я поблагодарил за честь…»
«Какая-такая честь?… Это для них честь!..»
Сказал ей, глупой, так всегда полагается, благодарить. Да как же не честь-то! Семейство хорошее, милиенщики, тайный он генерал был, вот он какой был… вот-вот, советчик. А у ней тело-душа, больше ни шиша, дюжины рубашек не наберется, мамашенька все не удосужилась припасти. И так всем понравилось, как Васенька благородно, через папашу, а не то чтобы… взял под ручку – и волоки к венцу.
«Ну, как же ты думаешь? – говорит. – Василий Никандрыч приедет завтра… Как ты думаешь?…»
Заюлила она, затеребилась, в зерькало погляделась…
«И чего это предки… – ишь, слово какое исхитрилась! – чего не в свое дело путаются! Хорошо, приедет – поговорим».
Барин со смеху прямо покатился, поцеловал ее.
«Откуда у тебя такие слова… артисточка ты моя!..»
Пондравилось ему очень, какие слова умеет.
«Я, – говорит, – сурьезно говорю… в какое ты меня положение поставишь, как откажешь! Лучше по телефону предупредить, как-нибудь…»
«Я, – говорит, – не думаю отказывать».
Так мы обрадовались, барыня расплакалась, что вот уж и выдают. И Катичка губки подобрала, уставилась глазками в пустое место, умеет она так. Известно, судьба подходит – каждая девушка себя жалеет. Заплакала я, пошла к себе, три поклона положила, дал бы ей Господь счастья… радость-то ведь какая! А мамаша у Васеньки померла, вдвоем они жили. На что уж лучше, – сама себе хозяйка, и к свекрови не привыкать… ну, клад дается. Барин мундир надел, саблю прицепил, поехал с визитом к ним.
XIV
Говорят вот, барыня, – богатство-богатство… и на погибель оно, и к лени приучает… – по человеку глядя. Всего я повидала. Графа видала, несметный богач был, а мне полсапожки чинил в Костинтинополе. А генерал посуду со мной мыл, в «Золотой Клетке» мы с Катичкой служили. И Васенька, кем-кем только не был… а как поднялся опять, все в Америке уважают. А простой-то какой, душевный… – вот и из богатства вышел. Все ведь по человеку. Свинью и золотом окуй – все свинья. Я к тому, что вот говорите – нищие да нищие стали. Это не страшно, барыня, нищим стать… страшно себя потерять. Граф Комаров вон, какой неприступный был, на человека не глядел, раньше-то. А теперь он в комнатке живет и куколки красит… может, и во святые попадет. Пришла к нему Марфа Петровна, бельецо ему починить, а у него только и есть, что на нем, – бедным пораздавал. Принесла она ему пяток апельсинов. Он на нее даже перекрестился, совсем уж блаженный стал. И говорит – «садись, сестрица, чайку попьем… мы все теперь братцы и сестрицы, нас Бог сравнял… чума нас излечила, душу свою найдем, и наша Россия-матушка душу свою найдет». Плакала на него Марфа Петровна, так растрогал.
Ну вот, завтра Васенька приезжает, а я, любопытная я… за дверью послушать стала, а наши уехали, не мешать. Он и говорит:
«Что вы, Катерина Константиновна, скажете… я прошу у вас руки?…»
А то Катичкой даже звал, а она его и Васькой величала, – раньше, правда, это бывало. До слез ее доведет, дражнится, – до чего дружны были. А не ндравилось ей, что Катериной ее назвали. И барыне все хотелось… Му-за назвать. Барин ее засмеял, все так – «Муза-пуза»! Ради тетки Катериной назвали. А я песенку все ей пела, – баушка та, у кого я в деревне жила, певала:
Катерина на перине,
Перед ней стоит детина,
Просит Катеньку учливо,
Ты скажи-скажи, Катюша,
Скажи, любишь али нет?
Васенька ее и дражнил – Катерина-наперина! А тут сурьезныи такой, узнать нельзя. И она тоже в сурьез вошла:
«Ничего не могу сказать, подумаю».
Он так и обомлел, шатнулся. И я… – ах, ты, думаю, ломака-ломака… да что ж ты делаешь-то! Он ей опять:
«Могу я надеяться?…»
«Можете, – говорит, – надеяться».
Помялся-помялся… она молчит. Потом уж я догадалась, это она к советчику бегала… – а вот, доскажу. Ну, уехал. Стали ей говорить, а она:
«Я ему не отказывала, я хочу подумать».
Хвалить ее стали, за карактер. Ездил Васенька, ждал, когда надумает. На рожденье подарок ей привез, царский, брилиянтовый кулон, за пять тыщ. Барин ему еще попе нял, как такие подарки дорогие. Извинился он, а кулон у Катички остался. И пошла эта канитель.
Она все с актерщиками, с подружками, а они вольные, никто ни во что… ну, ей и набили в голову: такая молодая, да что, дескать, связывать себя… не будете теперь на теятрах представлять, – турусы на колесах, из зависти. Потом сама мне сказывала. А первый заводчик – такой неприятный человек, актерщик тоже… вот не любила я его!.. Лицо у него обсосаное было, серое, чисто бес. И прыщавый весь… все за Катичкой увивался, а сам женатый. А знаменитый будто… барышни все его партреты покупали, а плюнуть не на что. И у Катички над постелькой харя его висела, а рядом картинка-Богородица, только заграничная, не наша, Мадонна называется. Чего-чего у ней не висело!.. Люди какие-то не настоящие, синие все, головы скошены… не поймешь – метлы не метлы, и снег синий, нарошно все. Ну, песья морда, а все влюблялись будто. А Катичка так перед ним и трепетала… – чем уж заколдовать так мог! Вот через того беса все и пошло.
Ну, ездил Васенька. А карактер у него благородный, покорливый, даром что богачи такие. Приедет – посидит, а она по Москве шлендает, время не знает. На Пасхе он ей и говорит:
«Ответьте мне вокончательно, я должен решить важное дело».
Она ему три дни сроку дала. Ну, приехал, она ему вынесла кулон…
«Я, – говорит, – рано замуж не хочу… мне надо учиться на теятры».
И давай свое: искуста-искусна… – ну, чисто у них молитва это. И актерщик тот, выгоняли которого, в Америке… тоже ей все – искусна, ис-куста!.. Да он-то хитрый, своего не упустит, а она разиня, жизнь-то ее и обобрала. Хорошо… Он ей – полная воля вам, учитель, – все уговаривал. Одни мы в квартире были. Я в столовой солдатикам варежки вязала, а они в рукодельном салончике. Слышу – стукнулось об пол чтой-то… гляжу в щелку, а он на коленях перед ней! А она сидит на креслах, чисто царица грозная, в глазастую шаль закуталась, как кукла спеленута, – хоть бы что! Видно мне ее в зерькале, как она пустыми глазами смотрит. А бе-элая сидит, губки поджала… а он на нее, как на икону, молится. Такое меня зло взяло… – будто это она теятры представляет. Все, бывало, с бумажкой перед зерькалом вертится, наговаривает бо-знать чего, язык выламывает. Да еще меня спросит: «что, хорошо я представляю?» Скажу – ничего не хорошо, вся уж испредставлялась, на себя непохожа стала, бормота одна. Она и рада! Вот выламываться начнет, наскрозь все зерькала проглядела. А то руку вытянет, – «Смотри: как из слоновой кости рука у меня!»
Ознакомительная версия.