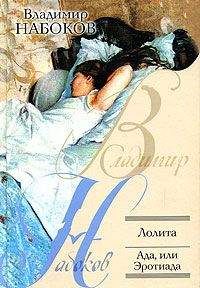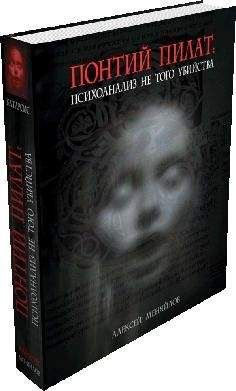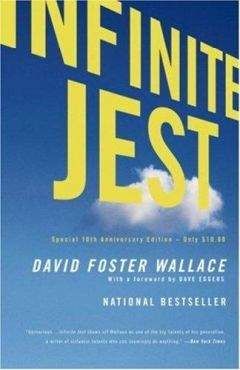10
Будничный полдник в усадьбе Ардис. Люсетта сидит между Мариной и гувернанткой; Ван между Мариной и Адой; похожий на златобурого горностая Так расположился под столом либо между Адой и мадемуазель Ларивьер, либо между Люсеттой и Мариной (собак Ван втайне не любил, в особенности за столом и в особенности этого приземистого, длинноватого, шибко дышащего уродца). Лукаво велеречивая Ада рассказывает сон или описывает какое-либо диво природы, или особый беллетристический прием – monologue interieur Поля Бурже, позаимствованный им у старого Льва, – или некий потешный промах в очередном обзоре Эльси де Норд, вульгарной дамы литературного полусвета, полагающей, что Левин разгуливал по Москве «в нагольном тулупе»: «мужицкой овчинной шубе, голой стороною наружу, мохнатой вовнутрь», по определению словаря, который наша комментаторша извлекает невесть откуда с ловкостью фокусника, всевозможным Эльси даже не снившейся. Впечатляющее мастерство, являемое ею в обращении с придаточными предложениями, ее апарте в скобках, сладострастное выделение соседствующих односложных («Бестолочь Эльси не смыслит ни в чем ни аза»), – все это, наконец, почему-то начинает действовать на Вана подобно неестественным стимуляторам и экзотическим мучительным ласкам, вызывая низменное возбуждение, томящее стыдом и извращенным наслаждением сразу.
– Сокровище мое, – окликает Аду мать, перемежающая ее разглагольствования краткими вскриками: «Как забавно!», «Ах, как мило!», но успевающая тоже отпускать и наставительные замечания вроде: «Сядь попрямее» или «Да ешь же, сокровище мое» (подчеркивая «ешь» с материнской мольбой, ничем не похожей на спондеические сарказмы дочери).
Ада то садится прямее, то выгибает податливый стан, то, когда сновидение или повесть о приключениях (или иной какой-то рассказ) достигает самой волнующей точки, нависает над столом, – с которого предусмотрительный Прайс уже снял ее тарелку, – раскидывая, раскладывая локти, то откидывается назад, несосветимо гримасничая в потугах изобразить «длинное-длинное» и вздымая руки все выше и выше!
– Сокровище мое, ты так и не попробовала, – да, Прайс, принесите...
Что? Веревку, по которой бесштанное дитя факира вскарабкается в мреющую синеву?
– Оно было такое длинное-длинное. Что-то вроде (перебивает сама себя)... вроде щупальца... нет, постой (качает головой, черты ее вздрагивают, как будто моток запутанной пряжи распускается одним быстрым рывком).
Нет: огромные красно-лиловые сливы, одна с палевым влажным надрывом.
– Вот тут-то я и... – (ерошит волосы, ладонь слетает к виску, что-то рисуя, но не оставляя расправляющего пряди движения; затем внезапный перелив хрипловатого, журчащего смеха прерывается влажным кашлем).
– Нет, серьезно, мама, представь, как я онемела, как я немо вопила, когда поняла...
В третий или в четвертый раз усевшись с ними за стол, Ван тоже кое-что понял. Поведение Ады, далекое от потуг смышленой девочки произвести впечатление на нового человека, было отчаянной и хитроумной попыткой помешать Марине завладеть разговором, превратив его в лекцию на театральные темы. Марина же, ожидая возможности пустить на рысях тройку своих коньков, получала определенное профессиональное удовлетворение, исполняя банальную роль любящей матери, гордой дочерним обаянием и остроумием и с не меньшим обаянием и остроумием снисходящей к ее резвой обстоятельности: это не Ада, это Марина пыталась произвести на него впечатление! А уяснив что к чему, Ван старался при всякой заминке в разговоре (которую Марина норовила заполнить избранными местами из трудов Станиславского) отпускать кораблик Ады в плавание по взбаламученным водам Ботанического залива – в странствие, которого он в иное время страшился, но которое ныне сулило его девочке свободу и безопасность. Особую важность приобретал этот маневр во время обеда, поскольку вечерняя трапеза Люсетты и гувернантки происходила несколько раньше, наверху, отчего в эти решающие мгновения мадемуазель Ларивьер отсутствовала и, стало быть, невозможно было рассчитывать, что она переймет у замешкавшейся Ады нить разговора и примется живо описывать тяготы сочинения новой повестушки (знаменитое «Брильянтовое ожерелье» претерпевало окончательную отделку) или делиться воспоминаниями о ранних годах Вана, к примеру, более чем приемлемыми, касающимися его любимого учителя русского языка, который нежно ухаживал за мадемуазель Л., писал хромыми размерами «декадентские» русские стихи и по-русски нарезался в одиночку.
Ван: «А вот этот, желтенький (указывая на цветочек, мило изображенный на Экеркроуновском блюде) – это лютик?»
Ада: «Нет. Этот желтый цветок – дюжинная Marsh Marigold, Caltha palustris. Наши простолюдины ошибочно называют ее «первоцветом», но, разумеется, подлинный первоцвет, Primula veris, это совсем другое растение».
– Понятно, – сказал Ван.
– Да-да, – начала Марина, – помню, я играла Офелию, и уже одно то, что я когда-то собирала гербарий...
– Несомненно помогло, – сказала Ада. – Так вот, по-русски marsh marygold называется «курослепом» (хотя татарские мужики, несчастные рабы, обозначают этим словом лютик, что совершенно неверно) или просто «калужницей», как ее вполне резонно называют в Калуге, США.
– Ага, – сказал Ван.
– Как случилось со множеством иных цветов, – с тихой улыбкой помешанного профессора продолжала Ада, – злополучное французское название нашего растения, souci d'eau, есть результат превратного толкования, хотя, возможно, следует сказать «преображения»...
– И на ромашку бывает промашка, – скаламбурил Ван Вин.
– Je vous en prie, mes enfants![27] – вмешалась Марина, которая с трудом поспевала за разговором, а теперь, вследствие недопонимания второго рода, решила, что он свернул и вовсе в неподобающую сторону.
– Кстати, не далее как нынешним утром, – сказала Ада, не снисходя до того, чтобы просветить свою мать, – наша ученая гувернантка, бывшая также и твоей, Ван, дама сугубо...
(Впервые она произнесла его имя – на том уроке ботаники!)
– ...суровая по части англоязычного перекрестного скрещивания, благодаря которому обезьяна оказывается «ревуном медведевидным», – хотя подозреваю, что причины у нее скорее шовинистические, чем артистические и нравственные, – привлекла мое внимание – мое рассеянное внимание – к некоторым и впрямь потрясающим промашкам, как ты, Ван, их назвал, в soi-disant дословном переводе господина Фаули, – поименованном «проникновенным» – проникновенным! – в недавней бредятине Эльси – переводе «Воспоминания», стихотворения Рембо (которое гувернантка, по счастью – и дальновидности – заставила меня заучить наизусть, хотя подозреваю, сама она предпочитает Мюссе и Коппе)...
– ...les robes vertes et deteintes des fillettes[28]... – торжествующе процитировал Ван.
– Egg-zactly[29] (имитируя Дана). Ну-с, мадемуазель Ларивьер разрешила мне прочитать его лишь в антологии Фельятена, видимо, у тебя она тоже есть, но я скоро, о да, очень скоро, гораздо скорее, чем кое-кто думает, получу oeuvres completes[30]. Кстати, она вот-вот спустится к нам, уложив Люсетту, нашу дорогую медноголовую змейку, которая уже наверняка натянула зеленую ночную рубашку...
– Ангел мой, – взмолилась Марина. – Я уверена, что Вана не интересуют ночные рубашки Люсетты!
– ...оттенка ивовой листвы и теперь считает овечек на своем ciel de lit, который Фаули из «расписных потолков спальни» превратил в «ложе небес». Однако вернемся к нашему скромному цветку. Фальшивый louis d'or[31] из принадлежащего этому Фалалею собрания французских уродцев есть не что иное, как souci d'eau (наша болотная калужница), преображенная в ослиное «тщание вод», – хотя в его распоряжении помимо marygold имелась дюжина таких синонимов, как «марьин глад», «марьин блуд», «моллиблюм» и множество иных прозваний, связанных с празднествами плодородия, что бы они собою ни представляли.
– С другой стороны, – сказал Ван, – легко представить себе столь же двуязычную мисс Риверс, просматривающую французский перевод, скажем, Марвеллова «Сада»...
– А, – вскричала Ада, – могу прочитать тебе «Le jardin» [32] в моем переводе – постой-ка...
En vain on s'amuse a gagner
L'Oka, la Baie du Palmier...
– ...to win the Palm, the Oke, or Bayes! – возопил Ван.
– Знаете, дети, – решительно вмешалась Марина, умиротворяюще поднимая обе ладони, – когда я была в твоем возрасте, Ада, а брат в твоем, Ван, мы разговаривали о крокете, о пони, о щенках, о прошедшем fete-d'enfants[33], о будущем пикнике и о... – да о миллионах милых нормальных вещей, но никогда, никогда о старых французских ботаниках и Бог знает о чем еще!
– Сама же говорила, что собирала гербарий, – сказала Ада.
– Помилуй, всего один сезон где-то там, в Швейцарии. Уж и не помню когда. Да теперь и не важно.
Она упомянула Ивана Дурманова: тот уже много лет как умер от рака легких в санатории (неподалеку от Экса где-то там, в Швейцарии, там, где восемь лет спустя родился Ван). Марина нередко вспоминала Ивана, ставшего к восемнадцати прославленным скрипачом, но не давала при этом воли каким-либо чувствам, и потому Ада удивилась, увидев, как густо напудренное и нарумяненное лицо матери подтаивает, омытое внезапным потоком слез (вызванных, может быть, аллергией на старые плоские сухие цветы или приступом сенной лихорадки, а то и генцианита, как мог бы задним числом подтвердить поставленный позже диагноз). Она высморкалась – со слоновьим, как сама говорила, звуком, – и тут сверху сошла мадемуазель Ларивьер, вся в предвкушении кофе и воспоминаний о Ване, бывшим когда-то bambin angelique и обожавшим a neuf ans[34] – лапочка бесценная! – Жильберту Сванн et la «Lesbie de Catulle»[35] (и выучившимся, без чьих-либо наставлений, облегчать обожание, едва керосиновая лампа, зажатая в кулаке его черной няньки, покидала качкую спальню).