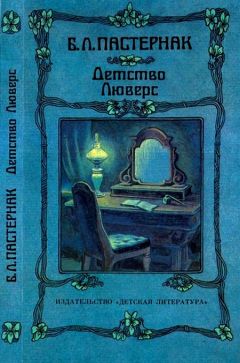Женя зажгла спичку, чтобы посмотреть, скоро ли светать будет. Был первый всего час. Это ее очень удивило. Неужто она и часу не спала? А шум не унимался там, на родительской половине. Вопли лопались, вылупливались, стреляли. Потом на короткое мгновение наступала широкая, вековечная тишина. В нее упадали торопливые шаги и частый, осторожный говор. Потом раздался звонок, потом другой. Потом слов, споров и приказаний стало так много, что стало казаться, будто комнаты отгорают там, в голосах, как столы под тысячей угасших канделябров.
Женя заснула. Она заснула в слезах. Ей снилось, что — гости. Она считает их и все обсчитывается. Всякий раз выходит, что одним больше. И всякий раз при этой ошибке ее охвытывает тот самый ужас, как когда она поняла, что это не еще кто, а мама.
Как было не порадоваться чистому и ясному утру! Сереже мерещились игры на дворе, снежки, сражения с дворовыми ребятами. Чай им подали в классную. Сказали — в столовой полотеры. Вошел отец. Сразу стало видно, что о полотерах он ничего не знает. Он и точно не знал о них ничего. Он сказал им истинную причину перемещения. Мать захворала. Нуждается в тишине.
Над белой пеленой улицы с вольным, разносчивым карканьем пролетели вороны. Мимо пробежали санки, подталкивая лошадку. Она еще не свыклась с новой упряжкой и сбивалась с шагу.
— Ты поедешь к Дефендовым, я уже распорядился. А ты…
— Зачем? — перебила его Женя.
Но Сережа догадался — зачем, и предупредил отца.
— Чтоб не заразиться… — вразумил он сестру.
Но с улицы не дали ему кончить. Он подбежал к окошку, будто его туда поманули. Татарин, вышедший в обнове, был казист и наряден, как фазан. На нем была баранья шапка. Нагольная овчина горела жарче сафьяна. Он шел с перевалкой, покачиваясь, и оттого, верно, что малиновая роспись его белых пим ничего не ведала о строеньи человеческой ступни, так вольно разбежались эти разводы, мало заботясь о том, ноги ли то, или чайные чашки, или крыльцовые кровельки. Но всего замечательнее, — в это время стоны, слабо доносившиеся из спальни, усилились, и отец вышел в коридор, запретив им следовать за собою, — но всего замечательнее были следки, которые он узенькой и чистой низкою вывел по углаженной полянке. От них, лепных и опрятных, еще белей и атласней казался снег.
— Вот письмецо. Ты отдашь его Дефендову. Самому. Понимаешь? Ну, одевайтесь. Вам сейчас сюда принесут. Вы выйдете с черного хода. А тебя Ахмедьяновы ждут.
— Уж и ждут? — насмешливо переспросил сын.
— Да. Вы оденетесь в кухне.
Он говорил рассеянно и не спеша проводил их на кухню, где на табурете горой лежали их полушубки, шапки и варежки. С лестницы подвевало зимним воздухом. «Эйиох!» — остался в воздухе студеный вскрик пронесшихся санков. Они торопились и не попадали в рукава. От вещей пахло сундуками и сонным мехом.
— Чего ты возишься?
— Не ставь с краю. Упанет. Ну, что?
— Все стонет. — Горничная подобрала передник и, нагнувшись, подбросила поленьев под пламенем ахнувшую плиту. — Не мое это дело, — возмутилась она и опять ушла в комнаты.
В худом черном ведре валялось битое стекло и желтелись рецепты. Полотенца были пропитаны лохматой, комканой кровью. Они полыхали. Их хотелось затоптать, как пыхающее тление. В кастрюлях кипятилась пустая вода. Кругом стояли белые чаши и ступы невиданных форм, как в аптеке.
В сенях маленький Галим колол лед.
— А много его с лета осталось? — расспрашивал Сережа.
— Скоро новый будет.
— Дай мне. Ты зря крошишь.
— Для ча зря? Талчи надо. В бутылкам талчи.
— Ну! Ты готова?
Но Женя еще сбегала в комнаты. Сережа вышел на лестницу и в ожидании сестры стал барабанить поленом по железным перилам.
VIII
У Дефендовых садились ужинать. Бабушка, крестясь, колтыхнулась в кресло. Лампа горела мутно и покапчивала: ее то перекручивали, то чересчур отпускали. Сухая рука Дефендова часто тянулась к винту, и когда, медленно отымая ее от лампы, он медленно опускался на место, рука у него тряслась меленько и не по-старчески, будто он подымал налитую через край рюмку. Дрожали концы пальцев, к ногтям.
Он говорил отчетливым, ровным голосом, словно не из звуков складывал свою речь, а набирал ее из букв и произносил все, вплоть до твердого знака.
Припухлое горлышко лампы пылало, обложенное усиками герани и гелиотропа. К жару стекла сбегались тараканы, и осторожно тянулись часовые стрелки. Время ползло по-зимнему. Здесь оно нарывало. На дворе — коченело, зловонное. За окном — сновало, семенило, двоясь и троясь в огоньках.
Дефендова поставила на стол печенку. Блюдо дымилось, заправленное луком. Дефендов что-то говорил, повторяя часто слово «рекомендую», и Лиза трещала без умолку, но Женя их не слышала. Девочке хотелось плакать еще со вчерашнего дня. А теперь ей этого жаждалось. В этой вот кофточке, шитой по материнским указаниям.
Дефендов понимал, что с ней. Он старался развлечь ее. Но то заговаривал он с ней как с малым дитятей, то ударялся в противоположную крайность. Его шутливые вопросы пугали и смущали ее. Это он ощупывал впотьмах душу дочкиной подруги, словно спрашивал у ее сердца, сколько ему лет. Он вознамерился, уловив безошибочно одну какую-нибудь Женину черту, сыграть на подмеченном и помочь ребенку забыть о доме, и своими поисками напомнил ей, что она у чужих. Вдруг она не выдержала и, встав, по-детски смущаясь, пробормотала:
— Спасибо. Я, правда, сыта. Можно посмотреть картинки? — И, густо краснея при виде всеобщего недоумения, прибавила, мотнув головой в сторону смежной комнаты: — Вальтер Скотта. Можно?
— Ступай, ступай, душенька! — зажевала бабушка, бровями приковывая Лизу к месту. — Жалко дитя, — обратилась она к сыну, когда половинки бордовой портьеры сошлись за Женею.
Суровый комплект «Севера»{18} кренил этажерку, и внизу тускло золотился полный Карамзин. С потолка спускался розовый фонарь, оставлявший неосвещенною пару потертых креслиц, и коврик, пропадавший в совершенном мраке, был неожиданностью для ступни.
Жене казалось, что она войдет, сядет и разрыдается. Но слезы навертывались на глаза, а печали не прорывали. Как отвалить ей эту со вчерашнего дня балкой залегшую тоску? Слезы неймут ее и поднять запруды не в силах. В помощь им она стала думать о матери.
В первый раз в жизни, готовясь заночевать у чужих, она измерила глубину своей привязанности к этому дорогому, драгоценнейшему в мире существу.
Вдруг она услышала за портьерой хохот Лизы.
— У, егоза, пострел тебя!.. — кашляя, колыхала бабушка.
Женя поразилась, как могла она раньше думать, что любит девочку, смех которой раздается рядом и так далек, так не нужен ей. И что-то в ней перевернулось, дав волю слезам в тот самый миг, как мать вышла у ней в воспоминаниях: страдающей, оставшейся стоять в веренице вчерашних фактов, как в толпе провожающих, и крутимой там, позади, поездом времени, уносящим Женю.
Но совершенно, совершенно несносен был тот проникновенный взгляд, который остановила на ней госпожа Люверс вчера в классной. Он врезался в память и из нее не шел. С ним соединялось все, что теперь испытывала Женя. Будто это была вещь, которую следовало взять, дорожа ей, и которую забыли, ею пренебрегнув.
Можно было голову потерять от этого чувства, до такой степени кружила пьяная, шалая его горечь и безысходность. Женя стояла у окна и плакала беззвучно; слезы текли, и она их не утирала: руки у ней были заняты, хотя она ничего в них не держала. Они были у ней выпрямлены энергически, порывисто и упрямо.
Внезапная мысль осенила ее. Она вдруг почувствовала, что страшно похожа на маму. Это чувство соединилось с ощущением живой безошибочности, властной сделать домысел фактом, если этого нет еще налицо, уподобить ее матери одною силой потрясающе сладкого состояния. Чувство это было пронизывающее, острое до стона. Это было ощущение женщины, изнутри или внутренне видящей свою внешность и прелесть. Женя не могла отдать себе в нем отчета. Она его испытывала впервые. В одном она не ошиблась. Так, взволнованная, отвернувшись от дочери и гувернантки, стояла однажды у окна госпожа Люверс и кусала губы, ударяя лорнеткою по лайковой ладони.
Она вышла к Дефендовым, пьяная от слез и просветленная, и вошла не своей, изменившейся походкой, широкой, мечтательно разбросанной и новой. При виде вошедшей Дефендов почувствовал, что то понятие о девочке, которое у него составилось в ее отсутствие, никуда не годно. И он занялся бы составлением нового, если бы не самовар.
Дефендова пошла на кухню за подносом, оставив его на полу, и взоры всех сошлись на пыхавшей меди, будто это была живая вещь, бедовое своенравие которой кончалось в ту самую минуту, как ее переставляли на стол. Женя заняла свое место. Она решила вступить в беседу со всеми. Она смутно чувствовала, что теперь выбор разговора за ней. А то ее будут утверждать в ее прежнем одиночестве, не видя, что ее мама тут, с нею и в ней самой. А эта близорукость причинит боль ей, а главное — маме. И словно подбодряемая последней: «Васса Васильевна!» — обратилась она к Дефендовой, тяжело опустившей самовар на краешек подноса…