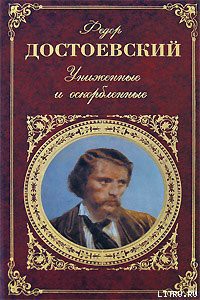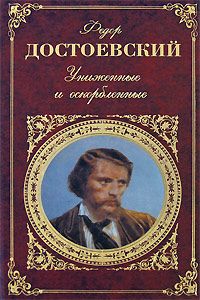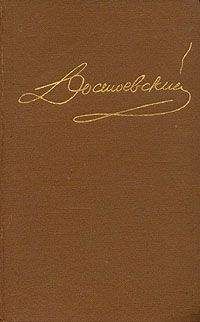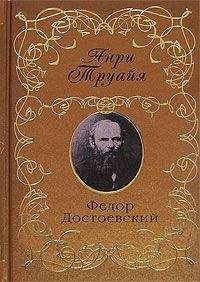– Я тысячу раз с наслаждением воображал себе, – продолжал он свою болтовню, – как он полюбит ее, когда узнает, и как она их всех изумит. Ведь они все и не видывали никогда такой девушки! Отец убежден, что она просто какая-то интриганка. Моя обязанность восстановить ее честь, и я это сделаю! Ах, Наташа! тебя все полюбят, все; нет такого человека, который бы мог тебя не любить, – прибавил он в восторге. – Хоть я не стою тебя совсем, но ты люби меня, Наташа, а уж я... ты ведь знаешь меня! Да и много ль нужно нам для нашего счастья! Нет, я верю, верю, что этот вечер должен принесть нам всем и счастье, и мир, и согласие! Будь благословен этот вечер! Так ли, Наташа? Но что с тобой? Боже мой, что с тобой?
Она была бледна как мертвая. Все время, как разглагольствовал Алеша, она пристально смотрела на него; но взгляд ее становился все мутнее и неподвижнее, лицо все бледнее и бледнее. Мне казалось, что она, наконец, уже и не слушала, а была в каком-то забытьи. Восклицание Алеши как будто вдруг разбудило ее. Она очнулась, осмотрелась и вдруг – бросилась ко мне. Наскоро, точно торопясь и как будто прячась от Алеши, она вынула из кармана письмо и подала его мне. Письмо было к старикам и еще накануне писано. Отдавая мне его, она пристально смотрела на меня, точно приковалась ко мне своим взглядом. Во взгляде этом было отчаяние; я никогда не забуду этого страшного взгляда. Страх охватил и меня; я видел, что она теперь только вполне почувствовала весь ужас своего поступка. Она силилась мне что-то сказать; даже начала говорить и вдруг упала в обморок. Я успел поддержать ее. Алеша побледнел от испуга; он тер ей виски, целовал руки, губы. Минуты через две она очнулась. Невдалеке стояла извозчичья карета, в которой приехал Алеша; он подозвал ее. Садясь в карету, Наташа, как безумная, схватила мою руку, и горячая слезинка обожгла мои пальцы. Карета тронулась. Я еще долго стоял на месте, провожая ее глазами. Все мое счастье погибло в эту минуту, и жизнь переломилась надвое. Я больно это почувствовал... Медленно пошел я назад, прежней дорогой, к старикам. Я не знал, что скажу им, как войду к ним? Мысли мои мертвели, ноги подкашивались...
И вот вся история моего счастия; так кончилась и разрешилась моя любовь. Буду теперь продолжать прерванный рассказ.
ГЛАВА X
Дней через пять после смерти Смита я переехал на его квартиру. Весь тот день мне было невыносимо грустно. Погода была ненастная и холодная; шел мокрый снег, пополам с дождем.
Только к вечеру на одно мгновение проглянуло солнце и какой-то заблудший луч, верно из любопытства, заглянул и в мою комнату.
Я стал раскаиваться, что переехал сюда. Комната, впрочем, была большая, но такая низкая, закопченная, затхлая и так неприятно пустая, несмотря на кой-какую мебель. Тогда же подумал я, что непременно сгублю в этой квартире и последнее здоровье свое. Так оно и случилось.
Все это утро я возился с своими бумагами, разбирая их и приводя в порядок. За неимением портфеля я перевез их в подушечной наволочке; все это скомкалось и перемешалось. Потом я засел писать. Я все еще писал тогда мой большой роман; но дело опять повалилось из рук; не тем была полна голова...
Я бросил перо и сел у окна. Смеркалось, а мне становилось все грустнее и грустнее. Разные тяжелые мысли осаждали меня. Все казалось мне, что в Петербурге я, наконец, погибну. Приближалась весна; так бы и ожил, кажется, думал я, вырвавшись из этой скорлупы на свет божий, дохнув запахом свежих полей и лесов: а я так давно не видал их!.. Помню, пришло мне тоже на мысль, как бы хорошо было, если б каким-нибудь волшебством или чудом совершенно забыть все, что было, что прожилось в последние годы; все забыть, освежить голову и опять начать с новыми силами. Тогда еще я мечтал об этом и надеялся на воскресение. «Хоть бы в сумасшедший дом поступить, что ли, – решил я наконец, – чтоб перевернулся как-нибудь весь мозг в голове и расположился по-новому, а потом опять вылечиться». Была же жажда жизни и вера в нее!.. Но, помню, я тогда же засмеялся. «Что же бы делать пришлось после сумасшедшего-то дома? Неужели опять романы писать?..»
Так я мечтал и горевал, а между тем время уходило. Наступала ночь. В этот вечер у меня было условлено свидание с Наташей; она убедительно звала меня к себе запиской еще накануне. Я вскочил и стал собираться. Мне и без того хотелось вырваться поскорей из квартиры хоть куда-нибудь, хоть на дождь, на слякоть.
По мере того как наступала темнота, комната моя становилась как будто просторнее, как будто она все более и более расширялась. Мне вообразилось, что я каждую ночь в каждом углу буду видеть Смита: он будет сидеть и неподвижно глядеть на меня, как в кондитерской на Адама Ивановича, а у ног его будет Азорка. И вот в это-то мгновение случилось со мной происшествие, которое сильно поразило меня.
Впрочем, надо сознаться во всем откровенно: от расстройства ли нерв, от новых ли впечатлений в новой квартире, от недавней ли хандры, но я мало-помалу и постепенно, с самого наступления сумерек, стал впадать в то состояние души, которое так часто приходит ко мне теперь, в моей болезни, по ночам, и которое я называю мистическим ужасом. Это – самая тяжелая, мучительная боязнь чего-то, чего я сам определить не могу, чего-то непостигаемого и несуществующего в порядке вещей, но что непременно, может быть, сию же минуту, осуществится, как бы в насмешку всем доводам разума придет ко мне и станет передо мною как неотразимый факт, ужасный, безобразный и неумолимый. Боязнь эта возрастает обыкновенно все сильнее и сильнее, несмотря ни на какие доводы рассудка, так что наконец ум, несмотря на то, что приобретает в эти минуты, может быть, еще большую ясность, тем не менее лишается всякой возможности противодействовать ощущениям. Его не слушаются, он становится бесполезен, и это раздвоение еще больше усиливает пугливую тоску ожидания. Мне кажется, такова отчасти тоска людей, боящихся мертвецов. Но в моей тоске неопределенность опасности еще более усиливает мучения.
Помню, я стоял спиной к дверям и брал со стола шляпу, и вдруг в это самое мгновение мне пришло на мысль, что когда я обернусь назад, то непременно увижу Смита: сначала он тихо растворит дверь, станет на пороге и оглядит комнату; потом тихо, склонив голову, войдет, станет передо мной, уставится на меня своими мутными глазами и вдруг засмеется мне прямо в глаза долгим, беззубым и неслышным смехом, и все тело его заколышется и долго будет колыхаться от этого смеха. Все это привидение чрезвычайно ярко и отчетливо нарисовалось внезапно в моем воображении, а вместе с тем вдруг установилась во мне самая полная, самая неотразимая уверенность, что все это непременно, неминуемо случится, что это уж и случилось, но только я не вижу, потому что стою задом к двери, и что именно в это самое мгновение, может быть, уже отворяется дверь. Я быстро оглянулся, и что же? – дверь действительно отворялась, тихо, неслышно, точно так, как мне представлялось минуту назад. Я вскрикнул. Долго никто не показывался, как будто дверь отворялась сама собой; вдруг на пороге явилось какое-то странное существо; чьи-то глаза, сколько я мог различить в темноте, разглядывали меня пристально и упорно. Холод пробежал по всем моим членам. К величайшему моему ужасу, я увидел, что это ребенок, девочка, и если б это был даже сам Смит, то и он бы, может быть, не так испугал меня, как это странное, неожиданное появление незнакомого ребенка в моей комнате в такой час и в такое время.
Я уже сказал, что дверь она отворяла так неслышно и медленно, как будто боялась войти. Появившись, она стала на пороге и долго смотрела на меня с изумлением, доходившим до столбняка; наконец тихо, медленно ступила два шага вперед и остановилась передо мною, все еще не говоря ни слова. Я разглядел ее ближе. Это была девочка лет двенадцати или тринадцати, маленького роста, худая, бледная, как будто только что встала от жестокой болезни. Тем ярче сверкали ее большие черные глаза. Левой рукой она придерживала у груди старый, дырявый платок, которым прикрывала свою, еще дрожавшую от вечернего холода, грудь. Одежду на ней можно было вполне назвать рубищем; густые черные волосы были неприглажены и всклочены. Мы простояли так минуты две, упорно рассматривая друг друга.