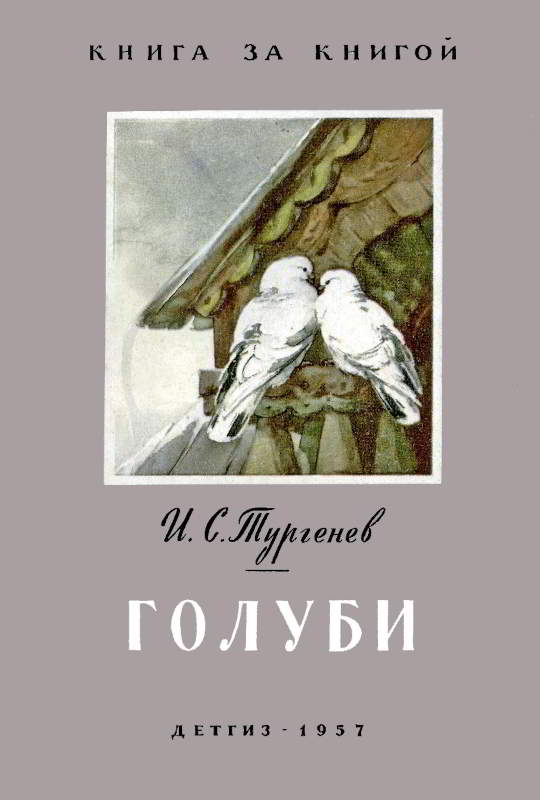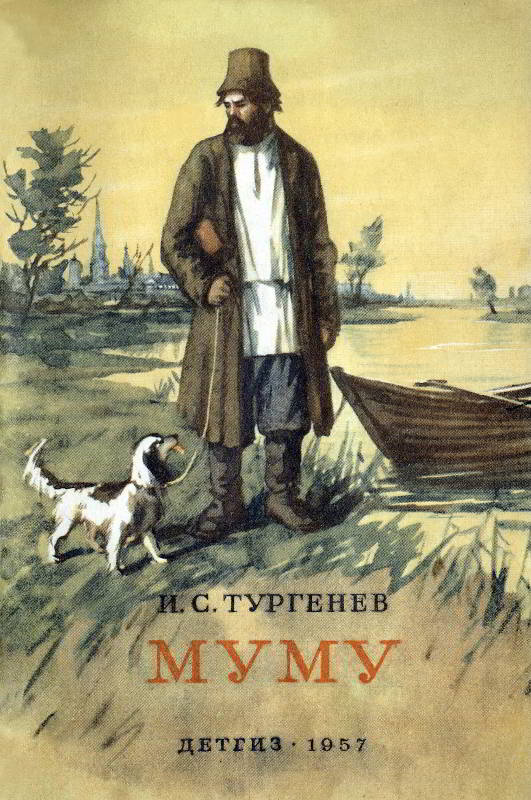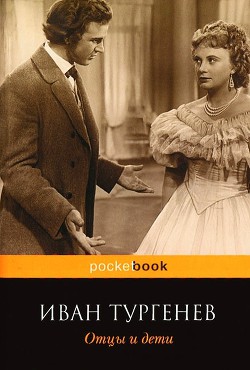в дом Дарьи Михайловны.
Перед обедом опять составился салон. Пигасов, однако, не приехал. Рудин не был в ударе; он все заставлял Пандалевского играть из Бетховена. Волынцев молчал и поглядывал на пол. Наталья не отходила от матери и то задумывалась, то принималась за работу. Басистов не спускал глаз с Рудина, все выжидая, не скажет ли он чего-нибудь умного. Так прошло часа три довольно однообразно. Александра Павловна не приехала к обеду – и Волынцев, как только встали из-за стола, тотчас велел заложить свою коляску и ускользнул, не простясь ни с кем.
Ему было тяжело. Он давно любил Наталью и все собирался сделать ей предложение… Она к нему благоволила – но сердце ее оставалось спокойным: он это ясно видел. Он и не надеялся внушить ей чувство более нежное и ждал только мгновенья, когда она совершенно привыкнет к нему, сблизится с ним. Что же могло взволновать его? какую перемену заметил он в эти два дня? Наталья обращалась с ним точно так же, как и прежде…
Запала ли ему в душу мысль, что он, быть может, вовсе не знает нрава Натальи, что она ему еще более чужда, чем он думал, ревность ли проснулась в нем, смутно ли почуял он что-то недоброе… но только он страдал, как ни уговаривал самого себя.
Когда он вошел к своей сестре, у ней сидел Лежнев.
– Что это ты так рано вернулся? – спросила Александра Павловна.
– Так! соскучилось.
– Рудин там?
– Там.
Волынцев бросил фуражку и сел.
Александра Павловна с живостью обратилась к нему:
– Пожалуйста, Сережа, помоги мне убедить этого упрямого человека (она указала на Лежнева) в том, что Рудин необыкновенно умен и красноречив.
Волынцев промычал что-то.
– Да я нисколько с вами не спорю, – начал Лежнев, – я не сомневаюсь в уме и красноречии г. Рудина; я говорю только, что он мне не нравится.
– А ты его разве видел? – спросил Волынцев.
– Видел сегодня поутру, у Дарьи Михайловны. Ведь он у ней теперь великим визирем. Придет время, она и с ним расстанется, – она с одним Пандалевским никогда не расстанется, – но теперь он царит. Видел его, как же! Он сидит – а она меня ему показывает: глядите, мол, батюшка, какие у нас водятся чудаки. Я не заводская лошадь – к выводке не привык. Я взял да уехал.
– Да зачем ты был у ней?
– По размежеванию; да это вздор: ей просто хотелось посмотреть на мою физиономию. Барыня – известно!
– Вас оскорбляет его превосходство – вот что! – заговорила с жаром Александра Павловна, – вот что вы ему простить не можете. А я уверена, что, кроме ума, у него и сердце должно быть отличное. Вы взгляните на его глаза, когда он…
– «О честности высокой говорит…» – подхватил Лежнев.
– Вы меня рассердите, и я заплачу. Я от души сожалею, что не поехала к Дарье Михайловне и осталась с вами. Вы этого не стоите. Полноте дразнить меня, – прибавила она жалобным голосом. – Вы лучше расскажите мне об его молодости.
– О молодости Рудина?
– Ну да. Ведь вы мне сказали, что хорошо его знаете и давно с ним знакомы.
Лежнев встал и прошелся по комнате.
– Да, – начал он, – я его хорошо знаю. Вы хотите, чтобы я рассказал вам его молодость? Извольте. Родился он в Т…ве от бедных помещиков. Отец его скоро умер. Он остался один у матери. Она была женщина добрейшая и души в нем не чаяла: толокном одним питалась и все какие были у ней денежки употребляла на него. Получил он свое воспитание в Москве, сперва на счет какого-то дяди, а потом, когда он подрос и оперился, на счет одного богатого князька, с которым снюхался… ну, извините, не буду… с которым сдружился. Потом он поступил в университет. В университете я узнал его и сошелся с ним очень тесно. О нашем тогдашнем житье-бытье я поговорю с вами когда-нибудь после. Теперь не могу. Потом он уехал за границу…
Лежнев продолжал расхаживать по комнате; Александра Павловна следила за ним взором.
– Из-за границы, – продолжал он, – Рудин писал своей матери чрезвычайно редко и посетил ее всего один раз, дней на десять… Старушка и скончалась без него, на чужих руках, но до самой смерти не спускала глаз с его портрета. Я к ней езжал, когда проживал в Т…ве. Добрая была женщина и прегостеприимная, вишневым вареньем, бывало, все меня потчевала. Она любила своего Митю без памяти. Господа печоринской школы скажут вам, что мы всегда любим тех, которые сами мало способны любить; а мне так кажется, что все матери любят своих детей, особенно отсутствующих. Потом я встретился с Рудиным за границей. Там к нему одна барыня привязалась из наших русских, синий чулок какой-то, уже немолодой и некрасивый, как оно и следует синему чулку. Он довольно долго с ней возился и, наконец, ее бросил… или нет, бишь, виноват: она его бросила. И я тогда его бросил. Вот и все.
Лежнев умолк, провел рукою по лбу и, словно усталый, опустился на кресло.
– А знаете ли что, Михайло Михайлыч, – начала Александра Павловна, – вы, я вижу, злой человек; право, вы не лучше Пигасова. Я уверена, что все, что вы сказали, правда, что вы ничего не присочинили, и между тем в каком неприязненном свете вы все это представили! Эта бедная старушка, ее преданность, ее одинокая смерть, эта барыня… К чему это все?.. Знаете ли, что можно жизнь самого лучшего человека изобразить в таких красках – и ничего не прибавляя, заметьте, – что всякий ужаснется! Ведь это тоже своего рода клевета!
Лежнев встал и опять прошелся по комнате.
– Я вовсе не желал заставить вас ужаснуться, Александра Павловна, – проговорил он наконец. – Я не клеветник. А впрочем, – прибавил он, подумав немного, – действительно, в том, что вы сказали, есть доля правды. Я не клеветал на Рудина; но – кто знает! – может быть, он с тех пор успел измениться – может быть, я несправедлив к нему.
– А! вот видите… Так обещайте же мне, что вы возобновите с ним знакомство, узнаете его хорошенько и тогда уже выскажете мне свое окончательное мнение о нем.
– Извольте… Но что же ты молчишь, Сергей Павлыч?
Волынцев вздрогнул и поднял голову, как будто его разбудили.
– Что мне говорить? Я его не знаю. Притом у меня сегодня голова болит.
– Ты, точно, что-то бледен сегодня, – заметила Александра Павловна, – здоров ли ты?
– У меня голова болит, – повторил Волынцев и вышел вон.
Александра