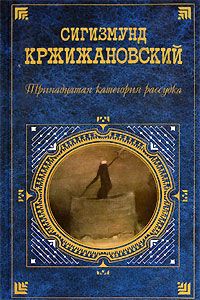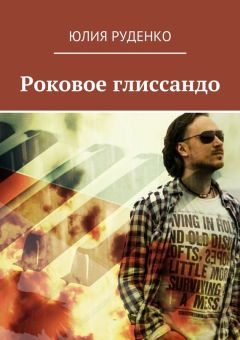Прежде чем вернуться к столу, Долев вышел в соседнюю залу музея. Теперь рядом с чернильницей и стопкой белой бумаги легли две толстые папки с пронумерованными рисунками поэта.
Часы за стеной пробили семь, потом восемь, а Долев все еще сидел над листами своих любимых папок. Они проходили перед ним, эти небрежные, прижатые к краю рукописных полей чернильные рисунки, блуждания пера. Вот покосившиеся крест и несколько стеблей, изогнутых вокруг заглавия «Странник»; вот странная процессия, точно сделанная из чернильных клякс пером, в расщепе которого застряла крохотная ниточка: рисунок к «Гробовщику» – с длинным гробом, поднятым кверху на упругих рессорах катафалка с длинным бичом возницы и коротенькими фигурами провожающих катафалк; а вот и веселый росчерк, оторвавшийся от подписи поэта и вдруг крутыми спиралями распахивающий чернильные крылья, превращающие росчерк в птицу.
Но особенно долго автор будущей статьи задержался на таинственном рисунке, который много раз и до того притягивал его внимание: это было изображение коня, занесшего передние копыта над краем скалы; две задние ноги и хвост, как и у Фальконета, упирались в каменный ступ скалы; как и у Фальконета, под конем извивалась попранная змея; как и в «Медном всаднике»… но всадника не было. Поэт как бы подчеркнул это отсутствие, пририсовав к спине коня, к желтоватому контуру его вздыбленной фигуры, чернилами более темного оттенка некоторое подобие седла. Где же всадник, где звучала его медная поступь и почему седло на рисунке № 411 было пусто?
Долев, сосредотачиваясь на той или иной мысли, имел привычку закрывать глаза. Так и теперь. Веки были странно тяжелыми, как свинцом давили на зрачки. Он сделал усилие раскрыть глаза. Что за диковина? Конь, как и прежде, стоял на профиле каменной глыбы, но длинная морда его, в ракурсе, была повернута в сторону Долева и чернильные точки-глаза шевелились. Надо было стряхнуть с себя иллюзию, протереть глаза, но руки чугунными перилами вросли в подлокотники кресла, и Долев мог только одно: наблюдать.
Конь сделал легкий прыжок и широкой рысью двинулся вперед. Плоское пространство бумажного листа разворачивающимся свитком неслось впереди него. Волнообразный гад, высвободившись из-под копыт, уцепился ртом за конец длинного конского хвоста, от чего тот казался втрое длиннее. Рысь перешла в карьер. Секунда – и конь, точно упругий мяч, оттолкнувшись от земли, взлетел, снова ударился копытами оземь – и тут у его движущихся лопаток, вывинчиваясь из плоского тела чернильными росчерками, стали быстро расти легкие крылья. К двум парам ног пришла на подмогу третья, воздушная, – и конь несся теперь высоко над нижним краем листа, ныряя в облака и из них выныривая. Долев (пульс все чаще стучал в висках) еле поспевал глазами за полетом.
Но вот конь прижал крылья к вздымающимся бокам и скользнул вниз. Копыта его остро цокнули о каменистую землю, и из-под них, прозрачной струей, брызнул искристый луч. «Иппокрена!» – мелькнуло в мозгу у Долева. Конь, отдыхая, спокойно щипал чернильно-черные штрихи травы, выросшие из нижнего края свитка. Местность уходила в глубину мягкими холмами, за контурами которых виднелась вершина какой-то горы, одетая в легкие росчерки туч. Седло, пририсованное к спине коня, по-прежнему было без всадника.
И тут внезапно Долев почувствовал, что он не один. Справа и слева от его закаменевших рук было еще по паре глаз. Одна принадлежала, как он это увидел, скосив взгляд, запыхавшемуся Самосейкину, другая – почтенному пушкинисту профессору Гроцяновскому. Через мгновение оба они очутились на рисунке, так что не надо было поворачивать головы к плечу, чтобы их видеть. Оба они были покрыты чернильными брызгами пыли; галстук Самосейкина съехал почти что на спину, а из прорванных локтей черного сюртука профессора торчали его голые натруженные мозолистые локти. Сейчас оба они подходили, профессор со стороны узды, поэт – со стороны хвоста, к мирно щипавшему штрихи травы коню. Тот шевельнул острыми ушами и, приподняв узкую голову, оглядел их веселым юмористическим оком. Профессор протянул руку к узде, поэт – к хвосту, но в тот же миг конь резко вздернул голову и хлестнул учетверенным хвостом. Профессор взлетел вверх и тотчас же рухнул наземь; поэт, получивший размашистый удар хвоста змеи, присосавшейся к хвосту коня, отлетел далеко назад. Оба они, привстав, с испугом смотрели на норовистое четырехкопытное существо.
В то же время в глубине рисунка появились, вначале неясно для глаза, два человеческих контура. Они подходили все ближе и ближе. Через минуту уже можно было различить, что один одет в белую складчатую тогу, другой – в черный, как клякса, узкий в талии и широкими раструбами расходящийся книзу сюртук. Контуры шли по змеевидной извилистой тропинке среди лавровых кустов и фантастических росчерков наземных трещин. Белый, теперь уже это можно было разглядеть, держал в левой руке вощеные таблички, в правой – поблескивал стальной стилос; черный размахивал в воздухе изогнутым, как запятая, хлыстом. Белый иногда вчерчивал что-то в свои таблички, черный, обнажая улыбкой белые, под цвет бумажному листу, зубы, вписывал свои мысли острым кончиком хлыста прямо в воздух. И от этого, точно черная летучая паутинка, на белом пространстве листа возникали строки, строки вырастали в строфы и плыли, меж трав и неба, чуть колеблемые слабым дуновением ветра. Это были какие-то новые, не читанные никогда никем стихи поэта. Гроцяновский и Самосейкин сперва раскрыли рты, потом опрометью кинулись навстречу скользящим в воздухе строкам. Но от резкого движения воздуха строки эти теряли контур и расплывались, как дым, потревоженный дыханием. Однако исследователь и поэт продолжали их преследовать. Спотыкаясь о камни, они падали, подымались снова. Гроцяновский, одышливо дыша, рылся в карманах, отыскивая записную книжку. Но она, очевидно, затерялась. Самосейкин, вынув вечное перо, тщательно подвинтил его и, подражая человеку в черном сюртуке, пробовал вписывать свои заметы в воздух. Тот не терял при этом своей гладкой белизны. Движения Самосейкина с каждым мигом делались все лихорадочнее и некоординированнее. Он искал причину неудачи в несложном механизме вечного пера, встряхивал им, пробовал писать на ладони: ладонь была покорна его воле, но бумажный воздух упорствовал.
Впрочем, вскоре оба они, увлеченные погоней, скрылись за чернильной линией холма.
Тогда конь, стоявший до сих пор почти без движения, оторвал копыта от земли и, кругля бегом ноги, приблизился к тем двоим, черному и белому.
Человек в тоге ласково потрепал его по вытянутой шее. Конь, выражая радость, нервно стриг воздух ушами. Затем он подошел к человеку в черном и положил ему голову на плечо. Тот, бросив в сторону толстую палку, на которую опирался, нежно обнял шею коня. Так они простояли, молча, с минуту, и только по радостно горящим глазам человека и по вздрагиванию кожи на шее коня угадывались их чувства.
В это время из-за линии холма показались снова Самосейкин и Гроцяновский. Они были измучены вконец. Пот градом сыпался с их лбов. Вместо сюртука с плеч профессора свисали какие-то разрозненные черные кляксы. О штанах Самосейкина можно было вспомнить «с благодарностию: были».
– Александр Сергеевич, – простонал задыхающимся голосом пушкинист, – маленькую справочку, только одну справочку…
Самосейкин в вытянутой руке держал какой-то томик, вероятно, своих собственных стихов: взор его молча молил об автографе.
– Александр Сергеевич, не откажите, дайте за вас Бога молить, обогатите нас датой, одной крохотной датой: в ночь с какого числа на какое (год нам известен), с какого на какое изволили вы начертать ваше «Пора, мой друг, пора!» э цетера?!
Человек в черном улыбнулся. Потом тронул коня за повод и поднял ногу в стремя. Уже сидя в седле, он наклонил голову к груди. И прозвучал его такой бесконечно милый сердцу, знакомый воображению каждого голос:
– Да, пора.
Несколько секунд длилось молчание. И снова его голос:
– Ночью. А вот какого числа, запамятовал, право.
И последнее, что видели на его лице Самосейкин, Гроцяновский и Долев: вежливая смущенная улыбка. Конь сверкнул чернью четырех копыт – и видение скрылось.
Настойчивый стук в дверь заставил Долева проснуться. В окно смотрело солнце. Циферблат часов показывал час открытия музея. Долев встал, бросил беглый взгляд на рисунок коня без всадника, лежащий на прежнем месте, и на не тронутую пером стопку писчей бумаги. Сделав нужные распоряжения, директор Пушкинского кабинета вернулся к стопке бумаги. Он попросил не тревожить его до полудня. Без десяти двенадцать звонок в редакцию извещал, что вместо статьи о рисунках Пушкина получился фантастический рассказ. Как отнесется к этому уважаемая редакция? Уважаемая редакция в лице замреда недоумевающе пожала плечами.