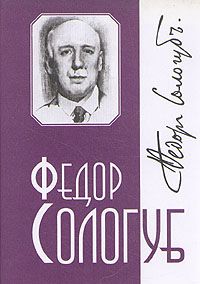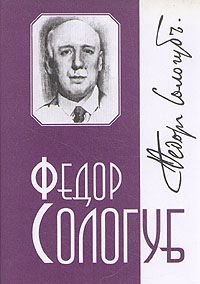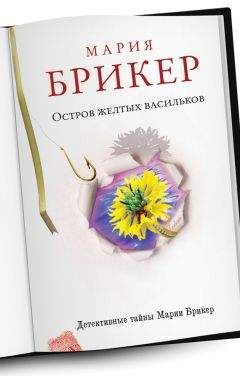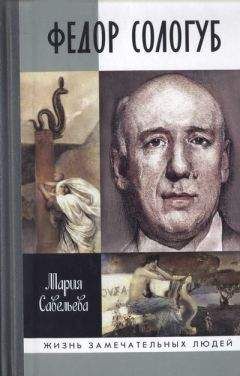Лезет, такая смешная, забавная, заплаканная, и повторяет слезливо и жалобно:
– Миленький, не надо, не надо!
Студент сунул револьвер в ящик стола, бросился к окну и, бормоча что-то несвязное, помог нежданной гостье перелезть подоконник.
Полная возбуждениями последних дней, она бросилась к нему, обняла его и, плача, повторяла без конца:
– Милый, хороший, не надо, – живи, люби меня, живи, я тоже несчастная.
– Извините, – сказал студент, – вы успокойтесь. Может быть, чаю?
Клавдия Андреевна засмеялась, все еще плача. Говорила:
– Не надо, не надо, ничего не надо. И этой игрушки не надо. Вот, если вы дошли до того, что уже нечем жить, – душевно нечем, – то вот, и я тоже, и если мы захотим, разве нельзя, разве так уж совсем нельзя сотворить жизнь по нашей воле, и жизнь, и любовь, и смерть? Вот послушайте.
Рассказывала ему о себе долго, сбивчиво, подробно, откровенно по-детски. Все рассказала. И опять вернулась к обидам, жгущим сердце уколами тысячи пчелиных жал. Смеясь и плача говорила:
– Он говорит, – морда, дохает туда же, – это, что я закашлялась от его махорки. А она говорит, – мордолизация. И оба смеются. Морда! Ну и пусть, и пусть!
Студент взъерошил свои лохмы, резким, привычным жестом вскинув руки как-то слишком вверх, и сказал утешающим голосом:
– Ну, это наплевать. Я тоже морда порядочная.
И вдруг засмеялись оба. И не было уже смертного томления в его глазах и в ее душе. Он подошел к ней близко, и обнял ее порывисто, и поцеловал звучно, весело и молодо в ее радостно дрогнувшие губы. Сказал:
– Эту ерунду к черту!
И сердито захлопнул ящик стола.
И она целовала его и повторяла:
– Милый, милый мой! Люби меня, люби меня, целуй меня, – будем жить вместе, и умрем вместе.
«Легче вдвоём.
Если не сможем идти,
Вместе умрём на пути,
Вместе умрём».
Так, убежав от буйного неистовства неправой жизни, пришли они к вожделенному Дамаску в союзе любви, сильной, как смерть, и смерти, сладостной, как любовь.
I
Дела инженера Генриха Зонненберга были теперь в очень сложном и деликатном положении. Вся его судьба висела на волоске. Очень обширные, смелые предприятия, начатые Генрихом Зонненбергом, оказывались такой природы и такого свойства, для которых готовится, по выражению Некрасовской поэмы о современниках, «в результате миллион или коническая пуля». Широта, быть может, гениальная, его замыслов граничила с преступностью дерзкой воли.
В настоящий момент вся судьба и предприятия Генриха Зонненберга и самой его жизни зависела от того, какое слово напишет на одном, уже изготовленном, но еще не пущенном в ход докладе одно весьма влиятельное, высокопоставленное лицо.
Может быть, оно начертает на полях ослепительно-белой и умопомрачительно-аккуратно написанной на ремингтоне официальной бумаги быстрыми и отрывочными движениями своего остро-отточенного карандаша вожделенный буквы «со св. ст. не н. пр.», что обозначает «со своей стороны не нахожу препятствий». Тогда Генрих Зонненберг вздохнет свободно. В карманы его польются чужие миллионы. Безумно дорогая вилла на Ривьере, которую он уже присмотрел, будет принадлежать ему.
Но может случиться и совсем иначе. Быть может, на пергаментно-желтом лице старого сановника мелькнет презрительно-суровая усмешка, в его маленьких, еще по-молодому ярких глазах затеплятся злые огоньки, и маленькая сухая рука, энергично сжимая карандаш, бросит на бумагу крупные, страшные буквы «откл.» – что будет обозначать «отклонить».
Тогда наступит полный крах. Будут предъявлены ко взысканию какие-то нелепые векселя. Потом делами Генриха Зонненберга заинтересуются прокуроры и судебные следователи. Эти люди одержимы маниею видеть признаки преступления там, где есть только ловкие и смелые, хотя и рискованные, конечно, комбинации. На неделикатном языке юристов заговорят о подлогах, мошенничествах и растратах, вовлечениях в невыгодные сделки, и еще Бог весть о чем.
Деньги иссякнут. Зизи выгонит Зонненберга. Милая графиня Мими не только изгонит его из своего сердца, но и не станет узнавать его при встречах на улицах или в собраниях.
Но нет, до этого, конечно, не дойдет. Генрих Зонненберг не из тех, кто терпит унижения. В ящике его письменного стола лежит револьвер. На случай же внезапного ареста он носит при себе, в хорошо скрытом хранилище, две-три капли быстро и верно действующего яда.
Дерзкая решимость покончить с собою наполняет душу Генриха Зонненберга незаконным подобием храбрости. Но его красивое, смуглое лицо нравящегося женщинам брюнета становится часто мечтательным, и глаза вдруг начинают глядеть рассеянно.
II
Генрих Зонненберг сидел со своими приятелями в общей зале одного дорогого кабачка. На столе перед ними в вазе со льдом стояла бутылка шампанского, уже не первая.
На эстраде выкрикивала что-то безголосая певичка в кургузом платье нелепого золотого цвета. Она показывала публике свои толстые икры, обтянутые ярко-голубыми чулками, и порою свою голую набеленную спину. Никто её не слушал. Почти никто и не смотрел на нее.
Приятели подшучивали над рассеянностью и мечтательностью Генриха Зонненберга. Говорили:
– Наш Генрих влюблен опять.
– И ревнует.
– Нет, он не ревнив. Он боится сцены ревности.
– Вернее, сцен: будет ревновать Зизи и еще другая.
– А кто другая?
– О, это его секрет.
Генрих Зонненберг улыбался лениво, и кое-как отшучивался, Его любовные приключения были общеизвестны, – кроме, конечно, его отношений к графине Мими, о которых не знал никто.
Подшучивали. Не знали настоящей причины. Генрих Зонненберг вел свои дела так, что еще никто не догадывался о его настоящем положении. А если бы они знали!
Генрих Зонненберг даже вздрогнул слегка, когда ему пришла в голову мысль о том, какие злорадные лица были бы у этих его милых друзей, если бы они знали хоть только часть истины.
III
Чтобы перевести разговор на другие темы, Генрих Зонненберг спросил вполголоса одного из своих собутыльников, Сержа Котелянского, который знал всех в городе, почти со всеми был хорош, или, по крайней мере знаком, и был вхож в неисчислимое количество домов:
– Кто это?
И показал легким, едва заметным движением головы на пробиравшегося между рядами столиков к оставленному для него месту близ эстрады очень моложавого господина, элегантно одетого и как-то странно красивого.
Красота его лица была несомненна, но было в ней что-то противное и даже как-будто позорное. Цвет его лица был чрезмерно нежен, бел и румян. Золотистые волосы его вились так круто, словно были завиты. Глаза его глядели томно и нагло, и маслянистый блеск их казался неприличным. Черты лица его были чрезвычайно правильны, и античный профиль его отличался изысканною строгостью очертаний. Рыжеватая, коротко подстриженная бородка нарушала чистоту этих строгих линий, но зато она как бы подчеркивала лукавый, порочный характер этого противоречивого лица. В сладкой упитанности его тела было что-то бесстыдное и притом волнующее.
Серж Котелянский поклонился новому посетителю с очень почтительным выражением. Тот ответил ему дружеским кивком и любезною улыбкою. Потом сел к своему столику. Там уже его ждали две сильно накрашенные наглые женщины и потертый, но бойкий господин во фраке.
Серж Котелянский сказал Генриху Зонненбергу:
– Вот! Неужели ты его не знаешь?
Генрих Зонненберг с легкою улыбкою отвечал:
– Правда, не знаю.
Серж Котелянский сказал внушительно:
– Ну, я тебе скажу, это – человек, которого надо знать.
Генрих Зонненберг возразил недоверчиво:
– Вот как! Даже надо!
Серж Котелянский настаивал оживленно:
– Да, да, именно надо. У него связи и влияние прямо-таки удивительные. Это – Иуда Искариот.
Генрих Зонненберг жадно всматривался в знаменитого человека. Серж Котелянский рассказывал с обычною своею развязанностью:
– Я как-то его спрашиваю, знаешь, во время откровенной болтовни: послушай, говорю, Иуда, с чего ты взял себе такой странный и страшный псевдоним? Разве, говорю, ты не мог бы подписывать своих статеек более благозвучным именем? Да ведь ты, говорю, наконец, даже вовсе и не Иуда.
Генрих Зонненберг спросил:
– А как его настоящее имя?
Серж Котелянский ответил:
– Его зовут Иосиф Аристархович Эдельвейс. Не правда ли, звучное имя?
С легкою усмешкою сказал Генрих Зонненберг:
– Слишком звучное.
Серж Котелянский возразил:
– Ну, вовсе не слишком. Да не в том дело. А можете вы себе вообразить, что он мне ответил?
– А что? – спросил Генрих Зонненберг.