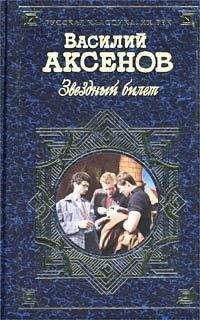— А вы кто будете? — спросил я для проверки.
— Я в кино снимаюсь. Актриса, — говорит она.
— Идите вниз, Таня, — сказал я. — Отдохните.
— Ага, — сказала она и дернула Юру за рукав. — Пойдем.
Я за Таней пошел, а Юра Горяев с другого борта. Смотрю, Мухин мне подмигивает на Таню и большой палец показывает, а потом на Юру презрительно машет — это, мол, ерунда, не соперник, мол, тебе, Югов, а так, только место в пространстве занимает. Если бы знал Мухин, кого мы везем…
И вообще он это зря, Мухин. Я не из таких. Есть жена — и ладно, а крановщица Маша — это так, с кем не бывает.
Бывает со всяким. С Мухиным такое бывает чаще, чем со всяким. Мухин баб не жалеет, потому что от него в свое время невеста отказалась.
Он очень правильный мужик, Мухин, скажу я тебе! Он мне раз такое из своей жизни рассказывал, что не во всякой книжке прочтешь.
Служил наш Мухин во время войны на подводной лодке, и накрыл их «юнкерс» своими бомбами. Лодка лежит на грунте с распоротым пузом, всем, в общем, пришла хана, только Мухин и раненый торпедист в одном отсеке жить остались. Это где-то возле Клайпеды было в сорок первом. В общем, представь себе, в кромешной темноте с раненым торпедистом. Дышать почти нечем, спички еле горят из-за недостатка кислорода. Часов через несколько Мухин взял буек, вылез через торпедный аппарат и выплыл на поверхность. А ночь уже была. Поставил Мухин буек над этим местом и поплыл куда-то вольным стилем, может, в Швецию, может, в Финляндию, а может, к своим. К своим попал. В пяти километрах на песчаной банке рота наша стояла из последних сил. Думаешь, товарища бросил Мухин? Ну, нет! Взяли они шлюпку и пошли в темном море буек искать. Еле нашли. Мухин нырять стал — не пехотинцам же нырять? А буек-то, оказывается, отнесло, раз пять Мухин нырял, пока лодку нашел. Влез туда, на старое место; в гроб, можно сказать, снова влез и вытащил торпедиста на поверхность. «Просто, — говорит, — Сережа, на чистой злобе работал, сил не было никаких».
Все же умер торпедист, а Мухин в плен попал на той банке. Потом в концлагере сидел в Норвегии. Убежал оттуда, с партизанами гулял. А после войны в нашем проверочном лагере сидел. Культ личности был, понял? Выпустить-то выпустили Мухина из лагеря, но только определили в спецконтингент.
Когда Сталин помер, проверять стали, что к чему, почему столько народу в лагеря запхали бериевские элементы. Реабилитировали Мухина и даже орден дали, в газетах о нем стали писать. Сам вырезки видел. Мухин тебе не Сизый, трепать не будет. Спокойный он мужик и деловой, только вот бабам простить никак не может. А зря, женщина женщине рознь.
Итак, пришли мы к Березани спокойно и вовремя, ошвартовались. Спустился я в каюту и разбудил наших пассажиров. Проводил их до Дома приезжих. Поднес Тане чемодан.
— До завтра, — сказал я им. — Завтра загляну к вам с утра.
После этого отправился домой. Иду по шоссе, от «МАЗов», как заяц, отпрыгиваю. Купил в автолавке булку черного хлеба, консервы «Бобы со свининой» и мармелад к чаю. На двоих будет в самый раз поужинать. Иду и все думаю о Вальке и о Тане. Нехорошо у них получается, непорядок.
Вижу, догоняет меня он сам, Валька Марвич, на своем колесном тракторе. Восседает на нем, как падишах. Сел я с ним рядом. Поехали. Все быстрее, чем пешком. Позади у Вальки ковш болтается полукубовый, а впереди бульдозерная лопата на весу. Знаешь эти хитрые тракторы «Беларусь»? Тут тебе и экскаватор, тут тебе и бульдозер, и тяговая сила опять же.
— Устал, — говорит Марвич. — А ты?
— А мне-то что? — ответил я. — Прогулку совершил по реке на легком катере, вот и все. Пассажиров привезли.
— А я устал, — говорит Марвич. — Устал, как лошадь. Как скот последний.
— Слушай, Валя, — сказал я ему, — ты не особенно переживай, но похоже на то, что жена твоя сюда прибыла с нашим катером.
Он только кашлянул и поехал дальше молча. Я смотрю: он потом весь покрылся, мелкими каплями.
— Шуточки такого рода, — говорит он через минутку, — раньше не свойственны были тебе, Сергей.
И газу, газу дает, балда.
— Я не шучу, — сказал я. — Таня, киноартистка, и на карточку похожа. С парнем одним она сюда приехала, с Юрой Горяевым. Только не жена она ему, это видно, и даже не крутят они любовь — это факт. Это твоя жена, друг.
— Что же, ты думаешь, ради меня она сюда приехала? — спрашивает Марвич.
— Зачем ради тебя? — успокоил я его. — Приехала она сюда ради меня или, может, ради нашего матроса Сизого, но уж не ради тебя, конечно.
— Боже мой, сколько иронии! — засмеялся Валька.
Мы лежали на койках в нашем вагончике и ждали, когда нагреются бобы. Керосинка стояла на полу возле двери, светились желтым огнем ее щелки и слюдяное окошечко. В вагончике было темно, только керосинка светилась, да в углу мокрый мой тельник висел на веревке, подвешенный за рукава. Как будто матрос высокого роста стоял в углу с поднятыми руками. Лампочку мы не зажигали, почему-то не хотелось. Лежали себе на койках, тихо разговаривали. Валька курил, а я мармелад убирал одну штучку за другой.
Вагончик этот мы захватили еще осенью, как говорил Марвич, «явочным порядком». Поселились в нем — и все. Сами утеплили его и перезимовали за милую душу. Тамарка, жена моя, прислала нам занавесочки вышитые, скатерку, клеенку, прочие там фигли-мигли, а Валька к Новому году купил здоровый приемник «Рига». В общем комфортабельная получилась халупа. Ребята из общежития нам завидовали. Экспресс «Ни с места» — так мы свою хату называли. Обещают нам к лету койки в каменном доме выделить, так просто жалко будет уходить, хоть там и гальюн будет теплый, и душевая, и сушилка.
Валька включил приемник, нашел Москву.
— Передаем концерт легкой инструментальной музыки, — сказала дикторша.
Музыка действительно была легкая, ничего себе музычка. Индикатор глазел на нас с Валькой, будто удивлялся: то расширялся, то суживался. Бобы начали бурлить.
— А не веришь, сходи к Дому приезжих, — сказал я.
Валька встал и надел свою кожаную куртку, кепку нахлобучил и в зеркало посмотрелся.
— Поешь сперва, — сказал я. — Готово уже.
Но он молча выскочил из вагончика. Я посмотрел в окошко. Он прыгнул через кювет и запрыгал по шоссе через лужи, потом опять через кювет и побежал, замелькала его черная тень, скрылась за ближним бараком.
Мы с Валькой случайно подружились еще в Эстонии, в каком-то буфете скинулись на «маленькую». Бывает же так, а! Скоро год уже, как мы с ним вовсе не расстаемся: он мне стал как самый лучший кореш, как будто мы с ним съели пуд соли вместе, как будто плавали на одном суденышке и на дне вместе отсиживались в темном отсеке под глубинными бомбами, стали мы с ним как братья, хоть у нас и разница в образовании.
Валя такой человек — скажешь ему: «Давай сходим туда-то», он говорит: «Давай сходим». Скажешь ему: «Давай выпьем, а?», а он: «А почему же нет? Конечно, выпьем». — «А может, не стоит?» — «Да, пожалуй, не стоит», — говорит он. Вот какой человек.
Но, конечно, и он не без заскоков, пишет рассказы. Надо сказать, рассказы его мне сильно нравятся. Там такие у него люди, будто очень знакомые.
Вот такое ощущение, знаешь: скажем, в поезде ты или в самолете поболтал с каким-нибудь мужиком, а потом судьба развела вас на разные меридианы; тебе, конечно, досадно — где теперь этот мужик, может, его и не было совсем; и вдруг в Валькином рассказе встречаешь его снова; вот так встреча!
— Ой, не идет! Не умею! Муть! — вопит иногда Валька и сует бумагу в печку.
— Балда, — говорю ему я. — Психованный тип. Лев Толстой знаешь, как мучился? А бумагу не жег.
— А Гоголь жег, — говорит он.
— Ну и зря, — говорю я.
Очень Тамаре моей Валька понравился и дочке тоже. А у самого у него семейная жизнь не ладится, по швам расползлась. Не знаю уж, кто из них прав, кто виноват. Таня ли, он ли, а только понял я из Валькиных рассказов, что мучают они друг друга без всяких причин.
Я снял кастрюлю, керосинку задул, навалил себе полную тарелку бобов и стал ужинать под легкую инструментальную музыку.
Не знаю, что делать мне с крановщицей Машей? Как получилось у нас с ней это самое, неделю мучился потом и бегал от нее, все Тамару вспоминал. Не хватает моей души на двух баб. А Валька говорит, что он в этих делах не советчик. А ведь мог бы подбросить какие-нибудь цэу. Писатель все же. Молчит, предоставляет самому себе.
А Маша мне стихи прислала: «Если ты облако белое, тогда я полевой цветок, все для тебя я сделаю, когда придет любви моей срок».
Тамара мне, значит, носки вязаные и шарф, а Маша — стихи.
Дела!
— Облако белое! — смеется Марвич. — Облако в клешах!
Это он шутит, острит без злобы.
По крыльцу нашему застучали шаги, и послышалось шарканье — кто-то глину с ног соскребывал. Я зажег свет. Вошли Марвич и Мухин. В руках у них были бутылки. Значит, Валька не к Дому приезжих, а в автолавку бегал, вот оно что.