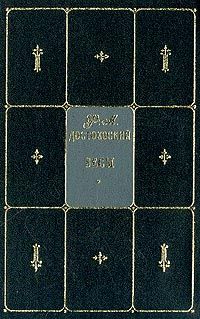— Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас…
Раз десять. Но он всё бежал, и уже выбежал было в сени, как вдруг послышался громкий выстрел. Тут он остановился в сенях в темноте и минут пять соображал; наконец вернулся опять в комнаты. Но надо было добыть свечу. Стоило отыскать направо у шкафа на полу выбитый из рук подсвечник; но чем засветить огарок? В уме его вдруг промелькнуло одно тёмное воспоминание: ему припомнилось, что вчера, когда он сбежал в кухню, чтобы наброситься на Федьку, то в углу, на полке, он как будто заметил мельком большую красную коробку спичек. Ощупью направился он влево, к кухонной двери, отыскал её, прошёл сенцы и спустился по лестнице. На полке, прямо в том самом месте, которое ему сейчас припомнилось, нашарил он в темноте полную, ещё непочатую коробку спичек. Не зажигая огня, поспешно воротился он вверх, и только лишь около шкафа, на том самом месте, где он бил револьвером укусившего его Кириллова, вдруг вспомнил про свой укушенный палец и в то же мгновение ощутил в нём почти невыносимую боль. Стиснув зубы, он кое-как засветил огарок, вставил его опять в подсвечник и осмотрелся кругом: у окошка с отворённою форточкой, ногами в правый угол комнаты, лежал труп Кириллова. Выстрел был сделан в правый висок, и пуля вышла вверх с левой стороны, пробив череп. Виднелись брызги крови и мозга. Револьвер оставался в опустившейся на пол руке самоубийцы. Смерть должна была произойти мгновенно. Осмотрев всё со всею аккуратностью, Пётр Степанович приподнялся и вышел на цыпочках, припёр дверь, свечу поставил на стол в первой комнате, подумал и решил не тушить её, сообразив, что она не может произвести пожара. Взглянув ещё раз на лежавший на столе документ, он машинально усмехнулся и затем уже, всё почему-то на цыпочках, пошёл из дому. Он пролез опять через Федькин ход и опять аккуратно заделал его за собою.
Ровно без десяти минут в шесть часов, в вокзале железной дороги, вдоль вытянувшегося, довольно длинного ряда вагонов, прохаживались Пётр Степанович и Эркель. Пётр Степанович отъезжал, а Эркель прощался с ним. Кладь была сдана, сак отнесён в вагон второго класса, на выбранное место. Первый звонок уже прозвенел, ждали второго. Пётр Степанович открыто смотрел по сторонам, наблюдая входивших в вагоны пассажиров. Но близких знакомых не встретилось; всего лишь раза два пришлось ему кивнуть головой, — одному купцу, которого он знал отдалённо, и потом одному молодому деревенскому священнику, отъезжавшему за две станции, в свой приход, Эркелю видимо хотелось в последние минуты поговорить о чём-нибудь поважнее, — хотя, может быть, он и сам не знал о чём именно; но он всё не смел начать. Ему всё казалось, что Пётр Степанович как будто с ним тяготится и с нетерпением ждёт остальных звонков.
— Вы так открыто на всех смотрите, — с некоторою робостью заметил он, как бы желая предупредить.
— Почему ж нет? Мне ещё нельзя прятаться. Рано. Не беспокойтесь. Я вот только боюсь, чтобы не наслал чёрт Липутина; пронюхает и прибежит.
— Пётр Степанович, они ненадёжны, — решительно высказал Эркель.
— Липутин?
— Все, Пётр Степанович.
— Вздор, теперь все связаны вчерашним. Ни один не изменит. Кто пойдёт на явную гибель, если не потеряет рассудка?
— Пётр Степанович, да ведь они потеряют рассудок.
Эта мысль уже видимо заходила в голову и Петру Степановичу, и потому замечание Эркеля ещё более его рассердило:
— Не трусите ли и вы, Эркель? Я на вас больше чем на всех их надеюсь. Я теперь увидел, чего каждый сто́ит. Передайте им всё словесно сегодня же, я вам их прямо поручаю. Обегите их с утра. Письменную мою инструкцию прочтите завтра или послезавтра, собравшись, когда они уже станут способны выслушать… но поверьте, что они завтра же будут способны, потому что ужасно струсят и станут послушны как воск… Главное, вы-то не унывайте.
— Ах, Пётр Степанович, лучше если б вы не уезжали!
— Да ведь я только на несколько дней; я мигом назад.
— Пётр Степанович, — осторожно, но твёрдо вымолвил Эркель; — хотя бы вы и в Петербург. Разве я не понимаю, что вы делаете только необходимое для общего дела.
— Я меньшего и не ждал от вас, Эркель. Если вы догадались, что я в Петербург, то могли понять, что не мог же я сказать им вчера, в тот момент, что так далеко уезжаю, чтобы не испугать. Вы видели сами, каковы они были. Но вы понимаете, что я для дела, для главного и важного дела, для общего дела, а не для того, чтоб улизнуть, как полагает какой-нибудь Липутин.
— Пётр Степанович, да хотя бы и за границу, ведь я пойму-с; я пойму, что вам нужно сберечь свою личность, потому что вы всё, а мы — ничто. Я пойму, Пётр Степанович.
У бедного мальчика задрожал даже голос.
— Благодарю вас, Эркель… Ай, вы мне больной палец тронули (Эркель неловко пожал ему руку; больной палец был приглядно перевязан чёрною тафтой). — Но я вам положительно говорю ещё раз, что в Петербург я только пронюхать и даже, может быть, всего только сутки, и тотчас обратно сюда. Воротясь, я для виду поселюсь в деревне у Гаганова. Если они полагают в чём-нибудь опасность, то я первый во главе пойду разделить её. Если же и замедлю в Петербурге, то в тот же миг дам вам знать… известным путём, а вы им.
Раздался второй звонок.
— А, значит, всего пять минут до отъезда. Я, знаете, не желал бы, чтобы здешняя кучка рассыпалась. Я-то не боюсь, обо мне не беспокойтесь; этих узлов общей сети у меня довольно и мне нечего особенно дорожить; но и лишний узел ничему бы не помешал. Впрочем, я за вас спокоен, хотя и оставляю вас почти одного с этими уродами: не беспокойтесь, не донесут, не посмеют… А-а, и вы сегодня? — крикнул он вдруг, совсем другим, весёлым голосом одному очень молодому человеку, весело подошедшему к нему поздороваться; — я не знал, что и вы тоже с экстренным. Куда, к мамаше?
Мамаша молодого человека была богатейшая помещица соседней губернии, а молодой человек приходился отдалённым родственником Юлии Михайловны и прогостил в нашем городе около двух недель.
— Нет, я подальше, я в Р… Часов восемь в вагоне прожить предстоит. В Петербург? — засмеялся молодой человек.
— Почему вы предположили, что я так-таки в Петербург? — ещё открытее засмеялся и Пётр Степанович.
Молодой человек погрозил ему гантированным пальчиком.
— Ну да, вы угадали, — таинственно зашептал ему Пётр Степанович, — я с письмами Юлии Михайловны и должен там обегать трёх-четырёх, знаете, каких лиц, чёрт бы их драл, откровенно говоря. Чёртова должность!
— Да чего, скажите, она так струсила? — зашептал и молодой человек: — она даже меня вчера к себе не пустила; по-моему, ей за мужа бояться нечего; напротив, он так приглядно упал на пожаре, так сказать жертвуя даже жизнью.
— Ну вот подите, — рассмеялся Пётр Степанович; — она, видите, боится, что отсюда уже написали… то есть некоторые господа… Одним словом, тут главное Ставрогин; то есть князь К… Эх, тут целая история; я пожалуй вам дорогой кое-что сообщу — сколько, впрочем, рыцарство позволит… Это мой родственник, прапорщик Эркель, из уезда.
Молодой человек, косивший глаза на Эркеля, притронулся к шляпе; Эркель отдал поклон.
— А знаете, Верховенский, восемь часов в вагоне ужасный жребий. Тут уезжает с нами в первом классе Берестов, пресмешной один полковник, сосед по имению; женат на Гариной (née de Garine[231]) и, знаете, он из порядочных. Даже с идеями. Пробыл здесь всего двое суток. Отчаянный охотник до ералаша; не затеять ли, а? Четвёртого я уже наглядел — Припухлов, наш Т-ский купец с бородой, миллионщик, то есть настоящий миллионщик, это я вам говорю… Я вас познакомлю, преинтересный мешок с добром, хохотать будем.
— В ералаш я с превеликим и ужасно люблю в вагоне, но я во втором классе.
— Э, полноте, ни за что́! Садитесь с нами. Я сейчас велю вас перенести в первый класс. Обер-кондуктор меня слушается. Что́ у вас, сак? Плед?
— Чудесно, пойдёмте!
Пётр Степанович захватил свой сак, плед, книгу и тотчас же с величайшею готовностью перебрался в первый класс. Эркель помогал. Ударил третий звонок.
— Ну, Эркель, — торопливо и с занятым видом протянул в последний раз руку уже из окна вагона Пётр Степанович, — я ведь вот сажусь с ними играть.
— Но зачем же объяснять мне, Пётр Степанович, я ведь пойму, я всё пойму, Пётр Степанович!
— Ну так до приятнейшего, — отвернулся вдруг тот на оклик молодого человека, который позвал его знакомиться с партнёрами. И Эркель уже более не видал своего Петра Степановича!
Он воротился домой весьма грустный. Не то чтоб он боялся того, что Пётр Степанович так вдруг их покинул, но… но он так скоро от него отвернулся, когда позвал его этот молодой франт и… он ведь мог бы ему сказать что-нибудь другое, а не «до приятнейшего» или… или хоть покрепче руку пожать.