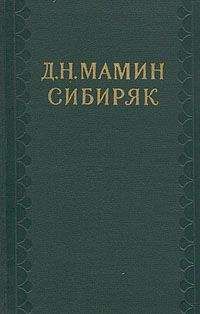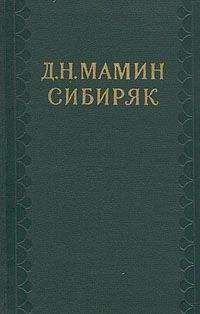Затеянная комедия была разыграна до конца, как по нотам. Савелий не показывался в генеральский дом целую неделю, а потом послал Мишке верного человека, чтобы поскорее завернул в злобинский дом. Когда Мишка пришел, Савелий даже не взглянул на него, как виноватый, а только проговорил:
– Через три дни генерал поедет по заводам и тебя возьмет с собой, а генеральша поставит на окно в гостиной свечку… Это у них знак такой. С террасы есть ход в сад, вот по этому ходу Ардальон Павлыч и похаживает к генеральше, когда генерала дома нет.
– Н-но-о?.. А ведь и точно, Савельюшко: есть такой ход. Верное твое слово…
– У них уж давно такие ненадобные дела, а генеральша нисколько не боится. Ардальон Павлыч сказал Мотьке, што убьет ее, ежели язык развяжет…
– Дела! В лучшем виде, Савельюшко…
– Мое дело сделано, а теперь уж ты приструнивай генеральшу, как знаешь.
– Ох, уж и не говори лучше: пришел мой смертный час!.. – вздохнул Мишка. – Разразит меня генерал по первому слову, уж это я вполне чувствую.
Савелий глухо молчал и все отвертывался от Мишки: его заедала мысль, из-за чего он сделался предателем. Совестно было своего же сообщника, а уж про других людей и говорить нечего… И Мишку сейчас Савелий ненавидел, как змея-искусителя. Но когда Мишка стал прощаться с ним, точно собрался умирать, Савелий поотмяк.
– Ничего, Михайло Потапыч, не сумлевайся очень-то: бог не без милости, казак не без счастья. Пронесет и нашу тучу мороком…
– Не знаю, останусь жив, не знаю – нет… – уныло повторял Мишка. – На медведя, кажется, легче бы идти. Ну, чего господь пошлет… Прощай, Савельюшко, не поминай лихом!
Прежде чем объявиться генералу, Мишка отправился в церковь и отслужил молебен Ивану-Воину и все время молился на коленях.
Выждав время, когда генеральша уехала из дому куда-то в гости, а Мотька улизнула к Савелию, Мишка смело заявился прямо в кабинет к генералу. Эта смелость удивила генерала. Он сидел на диване в персидском халате и с трубкой в руках читал «Сын отечества». Мишка только покосился на длинный черешневый чубук, но возвращаться было уже поздно.
– Чего тебе? – сурово спросил генерал, на мгновение исчезая в облаке табачного дыма.
Мишка перекрестился и бухнул прямо в ноги генералу.
– Ну? – коротко спросил генерал, сурово глядя на валявшегося в прахе верного раба.
Путаясь и перебивая свои собственные слова. Мишка начал свой донос, но генерал побледнел при первом же упоминовении полненькой генеральши.
– Что-о?!. – грянул он, и черешневый чубук засвистел в воздухе. – Да как ты смеешь, рракалллия?! Меррзавец…
Бой на этот раз был непродолжителен: и чубук сломался, и генерал задохся от волнения. Верный раб Мишка ползал у его ног и повторял одно:
– Икону сниму, ваше превосходительство… с места мне не сойти, ежели я хоть единым словом совру… Не таковское дело, штобы облыжные слова говорить. Завсегда как свеча горел перед вашим превосходительством…
Генерал был страшен. Недавняя бледность на лице сменилась багровыми пятнами, руки судорожно сжимались, глаза смотрели на Мишку с таким выражением, точно генерал хотел его проглотить. Переведя дух, он схватил Мишку за горло и прошептал:
– Ну, говори, Иуда… говори, змей… задушу своими руками, если соврешь хоть одно слово!
Стоя на коленях, Мишка рассказал по порядку все, что разведал о генеральше и о назначенном ближайшем свидании. Генерал слушал его с закрытыми глазами и только вздрагивал, когда в рассказе Мишки упоминалось имя полненькой генеральши. А если предатель Мишка говорит правду? Если… Когда Мишка кончил, генерал, не открывая глаз, махнул ему только рукой, чтобы убирался. Избитый и окровавленный верный раб, прихрамывая, вышел из кабинета и в душе поблагодарил бога, что так дешево отделался: первая и самая трудная половина дела была сделана, а там уж что бог даст. На его счастье, никто в доме не слыхал о происходившем в кабинете избиении, и у генеральши не могло явиться ни малейшей тени подозрения, когда она вернулась домой. Генерал сказался больным и на ключ заперся у себя в кабинете. Это случилось еще в первый раз, что старик был болен – он никогда не хворал, как настоящий николаевский генерал, закаленный на военной службе. Впрочем, генеральша не особенно встревожилась: мало ли старики хворают, да и ей было до себя.
Вечером генерал позвал к себе в кабинет Мишку и, не глядя на него, как подручный Савелий, проговорил:
– Через три дня я еду с тобой на заводы… понимаешь? Будь готов… Да скажи, чтобы на дворе к нашему отъезду была приготовлена фельдъегерская тройка. Это на всякий случай…
Эти роковые три дня верный раб Мишка оставался ни жив ни мертв, как приговоренный к казни. О настроении генеральши он мог догадываться только по Мотьке, которая вихрем летала через его переднюю. Генерал должен был выехать днем позже, и эта неаккуратность бесила генеральшу.
– Ты как будто не совсем здорова?.. – заметил ей генерал за обедом в день отъезда.
– Нет, ничего, папочка.
– Я могу и не ездить, если тебе нездоровится?
– Нет, зачем же, папочка… Я не желаю, чтобы ты из-за меня упускал свою службу.
Сомнений больше не могло быть…
Генерал выехал нарочно под вечер, когда спускались мягкие летние сумерки. Генеральша провожала его с особенной нежностью до самого подъезда. Мишка сидел на козлах, как преступник на эшафоте. Наступал решительный час, от которого зависело все.
– Тройка готова? – спросил генерал, когда они выезжали из ворот.
– Точно так-с, ваше превосходительство…
К удивлению Мишки, генерал был совершенно спокоен и молча покуривал свою сигару. Генеральская пятерка во весь карьер вылетела из города и понеслась по тракту к злобинским заводам, но на десятой версте генерал велел остановиться, повернуть назад и ехать в город. У заставы он вышел из экипажа, молча сделал Мишке знак следовать за собой и солдатским мерным шагом пошел по улице. Ночь была темная, так что высокая фигура генерала не обращала на себя особенного внимания. Верный раб Мишка плелся за ним, как грешная душа. Так они дошли до кафедрального собора, повернули на плотину и пошли по набережной к генеральскому дому. Мишка первый заметил одиноко горевшую на окне гостиной сигнальную свечку и молча указал на нее генералу.
– Хорошо, подлец, – ответил старик. – Ты карауль у сада, а я пойду к подъезду.
Мишка притаился у садовой калитки, а генерал зашагал к воротам, в которых и скрылся, незамеченный даже зазевавшимся часовым. Наступила минута рокового затишья. Мишка приготовился схватить врага за горло и жадно вслушивался в немую тишину ночи, нарушаемую только мерными шагами часового. Но вот в верхнем этаже мелькнул тревожный свет, где-то быстро распахнулась дверь, и Мишка не успел мигнуть, как кто-то с балкона второго этажа бросился на улицу, перевернулся в пыли и одним прыжком перелетел через железную решетку набережной в воду.
– Держи, держи! – крикнул Мишка, но уже было поздно – по пруду быстро плыла черная точка.
Что происходило в генеральском доме – осталось неизвестным. Но через полчаса к подъезду подъехала фельдъегерская тройка, генерал сам усадил в экипаж свою полненькую генеральшу вместе с Мотькой и махнул рукой.
Генеральша навсегда исчезла из Загорья, как тень.
Прошло ровно двадцать лет… Много воды за это время успело утечь, а действие нашего рассказа переносится с Урала за тысячи верст, на берега одетой в гранит Невы.
Был солнечный осенний день, один из тех дней, когда солнце точно старается согреть землю по-летнему и не может. Эта бессильная старческая ласка кладет на все печать усталости и какой-то специально осенней, тихой грусти. И небо какое-то грустное, точно и там, вверху, незримо отлетела животворящая сила, а в мглистом осеннем воздухе носится невидимая глазом паутина. Общее впечатление от такого дня похоже на то, что как будто где-то умер дорогой человек, но вы еще сомневаетесь в его смерти, и в душе чувствуется смутный протест против этого уничтожения. Хочется верить, что он жив, вот именно этот самый дорогой человек, а сердце не может мириться с самым словом: смерть. Но есть и своя поэзия в таких осенних днях – убывающая жизнерадостная энергия наводит на мысль о покое, о том мире, который при всяком освещении остается равен самому себе и который неизмеримо больше озаряемого видимым солнцем. Это умиротворяющая философия, которая залечивает самые глубокие раны и успокаивает самые беспокойные сердца.
Итак, был солнечный осенний день. По тротуару одной из дальних линий Васильевского острова медленно шел сгорбленный, но все еще высокий старик, тяжело опиравшийся на камышовую палку. Одет он был в военное генеральское пальто. Отставной генерал подвигался вперед медленно, не обращая ни на кого внимания: он делал свою обычную предобеденную прогулку. Потухшие серые глаза смотрели кругом совершенно безучастно и не замечали встречавшихся лиц. Да и что их было замечать, когда все это были незнакомые, чужие лица, которым тоже решительно не было никакого дела до отставного желтого николаевского генерала. Это был, как читатель догадывается, знаменитый генерал Голубко, гроза и трепет целого горного мира. Поровнявшись с Средним проспектом, старик повернул в аллею налево и направился к знакомой зеленой скамеечке, на которой отдыхал во время своих прогулок каждый день. На этой скамеечке его уже поджидал другой старик, тоже высокий и рослый, с окладистой седой бородой и широким, умным русским лицом.