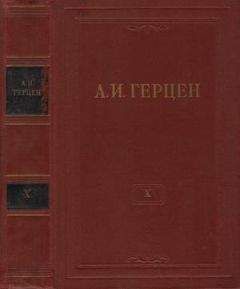В эту минуту он мне казался каким-то классическим героем, лицом из «Энеиды»… о котором – живи он в иной век – сложилась бы своя легенда, свое «Arma virumque cano!»[102]
Орсини был совсем другого рода человек. Дикую силу и страшную энергию свою он доказал 14 января 1858 года, в rue Lepelletier[103]; они приобрели ему великое имя в истории и положили его тридцатишестилетнюю голову под нож гильотины. Я познакомился с Орсини в Ницце, в 1851 году; временами мы были даже очень близки, потом расходились, снова сближались, наконец, какая-то серая кошка пробежала между нами в 1856 году, и мы хотя примирились, но уже не попрежнему смотрели друг на друга.
Такие личности, как Орсини, развиваются только в Италии, зато в ней они развиваются во все времена, во все эпохи: заговорщики-художники, мученики и искатели приключений, патриоты и кондотьеры, Теверино и Риензи, все, что хотите – только не пошлые будничные мещане. Такие личности ярко вырезываются в летописях каждого итальянского города. Они дивят добром, дивят злом, поражают силой страстей, силой воли. Беспокойная закваска бродит в них с ранних лет, им надобна опасность, надобен блеск, лавры, похвалы: это натуры чисто южные, с острой кровью в жилах, с страстями, почти непонятными для нас, готовые на всякое лишение, на всякую жертву из своего рода жажды наслаждения. Самоотвержение, преданность идут у них вместе с мстительностью и нетерпимостью; они просты во многом и лукавы во многом. Неразборчивые на средства, они неразборчивы и на опасности; потомки римских «отцов отечества» и дети во Христе отцов иезуитов, воспитанные на классических воспоминаниях и на преданиях средневековых смут, у них в душе бродит бездна античных добродетелей и католических пороков. Они не дорожат своею жизнию, но не дорожат также и жизнию ближнего; страшная настойчивость их равняется англосаксонскому упрямству. С одной стороны, наивная любовь к внешнему, самолюбие, доходящее до тщеславия, до сладострастного желания упиться властью, рукоплесканиями, славой, с другой – весь римский героизм лишений и смерти.
Людей этой энергии останавливать можно только гильотиной – а то, едва спасшись от сардинских жандармов, они делают заговоры в самых когтях австрийского коршуна и, на другой день после чудесного спасения из каземат Мантуи, рукой, еще помятой от прыжка, начинают чертить проект гранат, потом, лпцом к лицу с опасностью, бросают их под кареты. В самой неудаче они растут до колоссальных размеров и своею смертью наносят удар, стóящий осколка гранаты… Орсини молодым человеком попал в руки тайной полиции Григория XIV: он был судим за участие в романском движении я, осужденный на галеры, просидел в тюрьме до амнистии Пия IX. Огромное знание народного духа и железный закал характера вынес он из этой жизни с контрабандистами, с bravi[104], с остатками карбонаров. От этих людей, находившихся в постоянной, ежедневной борьбе с обществом, давившим их, научился он искусству владеть собой, искусству молчать не только перед судом, но и с друзьями.
Люди вроде Орсини сильно действуют на других, они нравятся своей замкнутой личностью, и между тем с ними не по себе; на них смотришь с тем нервным наслаждением, перемешанным с трепетом, с которым мы любуемся грациозным движениям и бархатным прыжкам барса. Они дети, но дети злые. Не только Дантов ад «вымощен» ими, но ими полны все следующие века, выращенные на грозной поэзии его и на озлобленной мудрости Макиавелли. Маццини так же принадлежит к их семье, как Козимо Медичи, Орсини – как Иоанн Прочида. Из них даже нельзя исключить ни великого «искателя морских приключений» Колумба, ни величайшего «бандита» новейших веков Наполеона Бонапарта.
Орсини был поразительно хорош собой: вся наружность его, стройная и грациозная, невольно обращала на него внимание; он был тих, мало говорил, размахивал руками меньше, чем его соотечественники, и никогда не подымал голоса. Длинная черная борода (как он носил ее в Италии) придавала ему вид какого-то молодого этрурийского жреца. Вся голова его была необыкновенно красива и разве только несколько попорчена неправильной линией носа[105]. И при всем этом в чертах Орсини, в его глазах, в его частой улыбке, в его кротком голосе было что-то, останавливавшее близость. Видно было, что он держит себя на узде, никогда вполне не отдается и удивительно владеет собой; видно было, что с этих улыбающихся губ не пало ни одного слова без его воли, что за этими внутрь сверкающими глазами какие-то пропасти, что там, где наш брат призадумается и отшарахнется, он улыбнется, не переменится в лице, не повысит голоса и пойдет далее без раскаяния и сомнения.
Весною 1852 года Орсини ждал очень важной вести по семейным делам; его мучило, что он не получал письма, он мне говорил это много раз, и я знал, в какой тревоге он жил. Раз, во время обеда, при двух-трех посторонних вошел почтальон в переднюю; Орсини велел спросить, нет ли письма к нему; оказалось, что какое-то письмо действительно было к нему, он взглянул на него, положил в карман и продолжал разговор. Часа через полтора, когда мы остались втроем, Орсини нам сказал: «Ну, слава богу, наконец-то получил я ответ – все очень хорошо». Мы, знавшие, что он ожидает письма, не догадались, до того равнодушно он распечатал письмо и потом положил его в карман; такой человек родился заговорщиком. Он и был им всю жизнь.
И что же сделал он с своей энергией? Гарибальди с своей отвагой? Пианори с своим револьвером? Пизакане и другие мученики, кровь которых еще не засохла? От австрийцев Италию освободит разве Пиэмонт, от неаполитанского Бурбона – толстый Мюрат, оба под покровительством Бонапарта. О divina Commedia![106] – или просто Commedia, в том смысле, как папа Киарамонти говорил Наполеону в Фонтенебло!
…С двумя лицами, о которых я упомянул, говоря о первой встрече с Маццини, я впоследствии очень сблизился, особенно с Саффи.
Медичи – ломбард. В начальной юности, томимый безнадежным положением Италии, он уехал в Испанию, потом в Монтевидео, в Мексику; он служил в рядах кристиносов, был, кажется, капитаном и, наконец, возвратился на родину, после избрания Мастая Феррети. Италия оживала, Медичи бросился в движение. Начальствуя римскими легионерами во время осады, он наделал чудеса храбрости; но французские орды все-таки вошли в Рим по трупам многих благородных жертв, по трупу Лавирона, который, как бы в искупление своему народу, дрался против него и пал, сраженный французской пулей в воротах Рима.
Трибун-воин Медичи должен рисоваться в воображении кондотьером, загоревшим от пороха и от тропического солнца, с резкими чертами, с отрывистой, громкой речью, с энергической мимикой. Бледный, белокурый, с нежными чертами, с глазами, исполненными кротости, с изящными манерами, Медичи скорее походил на человека, проводившего всю жизнь в дамском обществе, чем на герилиаса и агитатора; поэт, мечтатель, тогда страстно влюбленный, – в нем все было изящно и нравилось.
Несколько недель, проведенных с ним в Генуе, сделали мне большое добро; это было в самое черное для меня время, в 1852 году, месяца полтора после похорон. Я был сбит с толку: вехи, знаки фарватера были потеряны; не знаю, был ли я похож и тогда на поврежденного, как заметил Орсини в своих «Записках», но мне было скверно. Медичи жалел меня; он этого не говорил, но вечером поздно, часов в двенадцать, он стучал иной раз ко мне в дверь и приходил поболтать, садясь на мою постель (мы раз, беседуя с ним таким образом, поймали на одеяле скорпиона). Он стучал иной раз и в седьмом часу утра, говоря: «На дворе прелесть, пойдемте в Альбаро», – там жила красавица испанка, которую он любил. Он не надеялся на скорую перемену обстоятельств, впереди виднелись годы изгнания, все становилось хуже, тусклее, но в нем было что-то молодое, веселое, иногда наивное; я это замечал почти у всех натур этого закала.
В день моего отъезда пришли ко мне обедать несколько близких людей, Пизакане, Мордини, Козенц…
– Отчего, – сказал я шутя, – наш друг Медичи, с своими белокурыми волосами и северным аристократическим лицом, напоминает мне скорее каких-то фандиковских рыцарей, чем итальянца?
– Это натурально, – прибавил, продолжая шутить, Пизакане. – Джакомо – ломбард, он потомок какого-нибудь немецкого рыцаря.
– Fratelli[107], – сказал Медичи, – немецкой крови в этих жилах нет ни капли, ни одной капли!
– Хорошо вам толковать; нет, вы приведите доказательство, объясните нам, отчего у вас северные черты, – продолжал тот.
– Извольте, – сказал Медичи. – Если у меня северные черты, то, верно, какая-нибудь из моих прабабушек забылась с каким-нибудь поляком!
Чище и проще Саффи я не встречал натуры между не-русскими. Западные люди часто бывают недальние и оттого кажутся простыми, недогадливыми; но талантливые натуры редко бывают просты. У немцев встречается противная простота практических недорослей, у англичан – простота от нерасторопности ума, оттого, что они всё как будто спросонья, не могут порядком прийти в себя. Зато французы постоянно исполнены задних мыслей, заняты своей ролью. Рядом с отсутствием простоты у них другой недостаток: все они прескверные актеры и не умеют скрыть игры. Ломанье, хвастовство и привычка к фразе до такой степени проникли в кровь и плоть их, что люди гибли, платили жизнию из-за актерства, и жертва их все-таки была ложь. Это страшные вещи, многие негодуют за высказывание их, но обманываться еще страшнее.