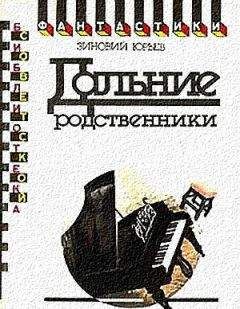- Дорогой друг, мне так жалко вас будить,- сказала Палицына,- но уже одиннадцать - он должен сейчас приехать.
Юрьев не любил Снеткова, но, встретив его у Палицыной, очень обрадовался ему. Снетков, хотя и был глуп, скуп, душился, как швейка, и в своих высоких воротничках выглядел настоящей устрицей - все-таки был своим человеком, с ним можно было поболтать на привычные темы, похвастаться перед ним запонками или портсигаром. В здешней унылой обстановке встреча со Снетковым была прямо находкой.
Сейчас же выяснилось, что Снетков бывает на пятницах давно и ему известны маленькие домашние секреты. Кроме кваса и пастилы, оказывается, здесь в задних комнатах давали портвейн и даже коньяк. "Для избранных", пояснил в нос Снетков, сделав важную, глупую мину, и, действительно, через какие-то салоны и кабинетики привел Юрьева в просторную библиотеку, устланную коврами и уставленную мягкой "клубной" мебелью. "Моnsieur desirе?" - балаганя под метр д'отеля, расшаркался он у столика с рюмками, бутылками и блюдом поджаренных фисташек.
Еще по дороге в библиотеку Юрьеву пришла в голову понравившаяся ему мысль: Снетков был глуп, болтлив, любил поважничать. И он часто бывает у Палицыной, с Вельским был тоже давно знаком... Юрьев нарочно старался не думать о Вельском, обо всей путанице, которая его окружала, - чувствуя себя, как перед отвесной стеной, на которую все равно не влезть. Но с помощью Снеткова на отвесной стене - как знать - могли отыскаться и ступеньки. Первая из них, пожалуй, была под ногами: политический салон,сказал Снетков. Так это в политический салон ввел его зачем-то князь!..
Юрьев отпил липкого, жгучего шартрезу. Снетков рассказал, брызгая слюной, очередную придворную сплетню - ...еt рuis lа соlоnеlе, рiquе unе сrisе dе nеrfs... (звать государыню "полков-ницей" только что вошло в моду - в шике блеснуть новинкой и заключалась суть дурацкого, неправдоподобного рассказа). Потом поболтали "о своем, о женском", как, хихикая, называл Снетков толки о картах и портных. Юрьев ждал, чтобы Снетков сам как-нибудь свернул на интересную ему тему, но тот все не сворачивал. Тогда, зевнув, Юрьев будто невзначай спросил: "А ты тоже интересуешься политикой?" Снетков удивленно прищурился: "Тоже?"
- Ну да - ведь мы в политическом салоне?
- А, вот ты о чем,- засмеялся Снетков.- В той же степени, что и ты,прибавил он двусмысленным тоном.
- В той же степени, что я?..
- Я хотел сказать, в той же области,- поправился Снетков и захохотал, точно сказав что-то крайне остроумное.
- Чему ты смеешься? - пожал плечами Юрьев.
- Дорогой,- возразил Снетков, хитро и сладко на него глядя.- Дорогой, не хорошо скрыт-ничать с друзьями.- Ты думаешь, я не слышал... - Он сделал паузу.- Думаешь, я не знаю, кто будет камер-юнкером в январе? - как-то выпалил он.
- Что ты мелешь, устрица,- рассердился Юрьев.- При чем тут мое камер-юнкерство? Что за чушь ты несешь!..
В хитрых глазах Снеткова мелькнуло странное выражение:
- Не сердись,- вдруг быстро зашепелявил он, точно испугавшись чего-то.- Я пошутил, не сердись... Что ты... камер-юнкером... так я читал списки. Вольф тоже представлен - удивительная пролаза этот Вольф. Кстати, ты будешь поражен: его сестра...
"Он ничего не знает... какая была бы гаффа - князь бы мне не простил" - прочел бы Юрьев, если бы он умел читать мысли, то, что беспокойно проносилось в голове Снеткова, пока он, меняя разговор, болтал что-то наспех сочиненное о сестре Вольфа. Но мыслей Юрьев читать не умел. Он только почувствовал разочарование: глупая устрица оказалась еще глупее, чем он предполагал. Ничего она не знала, ничего рассказать не могла...
Разочарование ждало Юрьева и в парадных комнатах, когда он туда вернулся: Вельского по-прежнему нигде не было.
ХVIII
Присутствие на вечере какого-то Фрея, голландского поданного, никого из посетителей пят-ниц не могло удивить. Иностранцы (разные мистики, пацифисты, проповедники слияния церквей и т. п.) бывали здесь часто. Фрея же вообще мало кто заметил. Приехал он поздно, когда собралось уже много народу, скромно посидел около хозяйки, скромно выпил чаю, скромно побродил по комнатам. Даже вынув сигару, он повертел ее в пальцах и, спрятав, закурил папиросу: сигар кругом никто не курил, сигара все-таки привлекала к себе внимание...
Вельский предупредил Фрея, что придется подождать, и Фрей ждал. С тех пор, как он сделался Фреем и голландским подданным, ожиданье стало для него чем-то вроде профессии. Ждать прихо-дилось всюду: в Стокгольме, на границе, в номере Северной гостиницы, здесь у Палицыной. Здесь ждать было даже не особенно скучно.
Побродив по комнатам, выпив чаю, выкурив папиросу, он так же скромно, не привлекая к себе ничьего внимания, сидел теперь в стороне, со спокойным любопытством заезжего туриста наблю-дая за кружком, от которого недавно со скукой и недоумением отошел Юрьев. Несколько дам и пожилых господ сановного вида слушали немолодого коренастого человека, который что-то им говорил, подпевая и временами даже приплясывая. То, что он говорил, очевидно, очень нравилось окружающим, судя по их внимательному виду, одобрительным кивкам и словам "сhаrmаnt" и "dеliciеuх", которые слышались, когда он на время читать и приплясывать переставал. Судя по внешности, человек, которого так внимательно слушали эти важные дамы и господа, был простым русским мужиком.
И поддевка, и косоворотка, и гребешок у пояса - все это было хорошо, еще с детства знакомо Фрею по таблицам в этнографических атласах, изображавших "великоросса". Сходство с картин-кой из атласа усиливалось тем, что мужик этот - Фрей ясно видел - был подрумянен и напуд-рен, глаза его были подведены, волосы напомажены. "Значит есть такие именно мужики, как в атласах,- думал Фрей с некоторым удивлением: другие русские мужики, которых ему приходи-лось встречать, выглядели совсем иначе. - Или это артист, оттого он и нарумянен?.."
-...Скоро, скоро, детушки, забьют фонтаны огненные, застрекочут птицы райские, вскроется купель слезная и правда Божья обнаружится,- читал нараспев мужик или артист, и Фрей, вслу-шиваясь в непонятную варварскую музыку витиеватой скороговорки, думал о том, какие странные глаза у чтеца. Они были маленькие, серые, почти бесцветные - выраженье их было одновременно хитрое и наивное и равнодушное. Человек с такими глазами, конечно, мог быть негодяем, но мог быть и подвижником, святым. Кто он на самом деле, нельзя было догадаться, и впечатление было такое (это и было удивительно), что и сам он об этом не догадывался.
"...Русское, лживое, иррациональное..." - вдруг вспомнился Фрею предостерегающий, тоскли-вый шепот Адама Адамовича и ему почудилось, что не у одного нарумяненного мужика такой взгляд. Вот седоватый господин вынул портсигар и закурил. Вот немолодая, еще красивая дама в черном платье и жемчугах подняла лорнетку. Кто-то кашлянул; кто-то, наклонившись к соседу, что-то шепнул и сосед в ответ улыбнулся. Все в этих людях было совершенно таким, как бывает всюду: в Берлине, в Лондоне, где угодно. Все в них, в их платье, манерах, улыбках, выраженья лиц было изящно-обыкновенно, европейски-нейтрально. И в то же время... Из-под седоватых бровей сановника, из-за стекол лорнета, который грациозно подняла дама, плыло (Фрею вдруг почуди-лось) то же самое, томительное, беспокойно-равнодушное, наивно-хитрое, русское, то самое, что светилось в глазах паясничающего, нарумяненного мужика, то самое, о чем со злобою и отвраще-нием говорил Штейер...
Фрей вздрогнул.
- Слушаете? - улыбаясь спрашивал Вельский, наклоняясь над ним. - Это наш известный поэт, большой талант, притом, как видите, самородок - un vrai рауsаn.6 А я пришел показать вам здешние медали, ведь вы нумизмат?
В рабочем кабинете Марьи Львовны, где полчаса назад Вельский спал, было уже все готово. Горел камин, удобные кресла были подвинуты к огню, столик с вином, фруктами и сластями (очень много сластей и вино, тоже все сладкое и крепкое: мадера, малага, крымский айданиль) был тут же под рукой. Под рукой была и развернутая карта Европы. Перед образом, в углу, ярко светилась малиновая "архиерейская" лампадка - ее только что нарочно зажгли.
Когда князь с Фреем вошли - Марья Львовна молча кивнула им, не отходя от окна. Вельский потушил верхний свет и, усадив Фрея, тихо и наставительно что-то ему говорил. Марья Львовна, стоя у окна, всматривалась в черную точку в конце мутно освещенной улицы. Улица была совсем пуста, черная точка медленно приближалась. Она была еще очень далеко - ни извозчика, ни седока еще нельзя было рассмотреть, но Марья Львовна уже наверное знала, что это тот самый извозчик, тот самый седок... Она всматривалась и ждала. Вот, наконец, в свете фонаря мелькнула лысая морда лошади, вот сани, миновав главный подъезд, завернули к садовой калитке. Марья Львовна смотрела, немного скосив глаза, как из саней, не торопясь, выходил человек в шубе и боярской шапке, как навстречу ему бежал поджидавший его лакей, как лакей поспешно открывал калитку и низко, несколько раз поклонился. Марья Львовна смотрела на лакея, на лошадь, на боярскую шапку приехавшего, с необыкновенной ясностью понимая, что все они значут. И как это раньше не пришло ей в голову, раз все было так необыкновенно, так потрясающе ясно!


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)